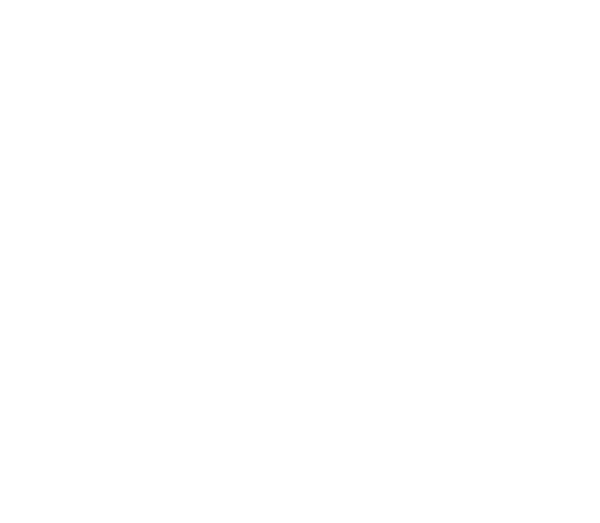Поэма
Песнь о двадцатилетних
Расул Гамзатов
I
Не знаю, с чего эту песню начать,
С какого такого заветного слова,
Которое жжет мою грудь по ночам,
Чтоб вырваться снова из плена немого.
С мечтою о ней я покинул свой дом
И с думой о ней возвратился с чужбины…
О чем эта странная песня, о ком
Рыдает во мне, словно клин журавлиный?
… В Японии я в январе побывал,
В чудесной стране восходящего солнца,
И сразу попал, с корабля да на бал,
На празднество двадцатилетних японцев.
Какой удивительный праздник! Его
Увы, не сравнить с нашим Днем молодежи.
Он только для тех, кому двадцать всего —
Ни на год не старше, ни на день моложе.
В саду императора юность страны
Сверкала, как радуга в небе, где краски,
Сливаясь, приветствовать были должны
Всеобщего двадцатилетия праздник.
Прекрасная юность! Ты, как кимоно,
Затейливой лентой причудливой ткани
Струилась повсюду, стекаясь в одно
Глубокое русло безумных желаний.
Хотел бы обнять я твою красоту!
Как много сегодня вокруг новобрачных,
Которых по взглядам видать за версту —
Не встретить здесь физиономии мрачной.
Два десятилетья у них позади…
Вращается время, как будто пластинка,
И все ж они в самом начале пути,
Где все им желанно, где все им в новинку.
Двадцатая зрелость, о, как ты юна!
Танцуя без устали вальсы и твисты,
Ты огненной музыкой опьянена…
Хмелеешь от хохота, словно от виски.
Весь Токио нынче танцует с тобой,
И кажется мне, что быстрей в этот вечер
Вращается даже наш шар голубой,
Спеша восходящему солнцу навстречу.
Вдруг головы всех устремляются ниц…
И, приподнимая столетий завесу,
Как в сказке, в саду появляется принц
С прекрасною Золушкой, ставшей принцессой.
Покуда традиции строго храня,
Стоит молодежь в восхищенном поклоне,
Супруги, и возгласа не оброня,
На лестницу чинно восходят, как пони.
И принц произносит короткую речь…
И хоть мне, аварцу, язык тот неведом,
Я чувствую — он лаконичен, как меч,
Приученный к молниеносным победам.
А юность с почтеньем внимает ему,
Как сакура в зимнем саду расцветая,
И только один я никак не пойму,
Что может январь быть прекраснее мая.
О, двадцатилетие! Это пора,
Быть может, всего благодатней на свете?..
Я вспомнил аульские те вечера,
Где был я мальчишкой семнадцатилетним.
И девушка та, по которой вздыхал,
Была меня старше всего на три года…
Но сверстник ее, будто бы аксакал,
Глядел сверху вниз неприступно и гордо.
Ах, лучше бы вовсе их не вспоминать…
Но памяти вновь я листаю страницы
И вижу там Каспий, где мне двадцать пять,
А рядом прекрасные девичьи лица.
Им только по двадцать, не больше того,
А я уже в жизни немало изведал,
И сердце вскипает в груди оттого,
Что мне безразличны былые победы.
А вот тридцать шесть мне пробило уже —
Бурлит фестиваль на московских бульварах,
И я с непонятной тоскою в душе
Любуюсь на двадцатилетние пары.
А нынче мне стукнуло аж сорок два…
Пора уже с ярмарки мне возвращаться,
Но кругом, как прежде, идет голова,
Как будто мне будет пожизненно двадцать.
И улицы Токио, словно магнит,
Мятежную душу мою привлекают,
И вечер январский так жадно манит,
Цветением юности благоухая.
Но вдруг чей-то голос, как рокот реки,
Которая с гор устремляется к морю
Возник неожиданно, словно стихи,
В бессмысленном и бытовом разговоре.
Японец седой мне напомнил отца,
Он спутнице юной шептал что-то страстно,
И сразу же я угадал в нем певца
По звукам, которые были прекрасны.
И прежде такой непонятный язык
Вдруг настежь открыл золотые ворота
И хлынул, как ливень, причудливый стих,
Что стал мне понятен и без перевода.
Как горное эхо, пронеся вдали,
Чтобы многократно в душе повториться
И чтоб я на краешке самом земли
Себя ощутил на мгновение принцем.
Аварский поэт… До меня никогда
Нога дагестанца сюда не ступала,
И вот я сверкаю, как будто звезда,
В созвездии этого юного бала.
Но двадцатилетние люди, увы,
Проносятся с хохотом, словно кометы,
Не зная, быть может, что я из Москвы
Приехал к ним в гости на празднество это.
И гор моих снежных гортанный язык,
Наверное, тоже еще им неведом.
Он чем-то похож на пронзительный крик
Того журавля, что прощается с летом.
Не знают они и обычаи гор,
Суровых и нежных, откуда я родом,
Где старая мама моя до сих пор
Все ждет меня, не запирая ворота.
А я из Японии дальней смотрю
На звезды, что в путь отправляются млечный,
И кажется, будто бы с ней говорю
На нашем родимом аварском наречье.
И песня, как завязь, как робкий росток,
В душе созревает, чтоб к свету пробиться…
Но падает, как календарный листок,
И камнем летит, как подбитая птица.
Неспетая песня… Вдруг оборвалась
Она невзначай, как струна на пандуре,
И с нею исчезла незримая связь
Меж прошлым и будущим, штилем и бурей.
Но в памяти цепкой, как прежде, жива
Та неповторимая звонкая нота,
Что в сердце моем, зародившись едва,
Готова была для большого полета.
Неспетая песня… В Кавказских горах
Не празднуют двадцатилетия праздник,
И зрелости время у нас на часах
Толкуют иначе в селениях разных.
Мгновенья бегут… Проплывают века.
Седеют от вьюг и раздумий вершины.
Но времени нить не прервется, пока
Растут и взрослеют в аулах мужчины.
Вот этот и в десять уже удалец,
К пятнадцати он возмужает до срока.
А тот, хоть и сед, но трусливый подлец,
Не будет ему и от старости прока.
О, зрелость, в горах измеряешься ты
Не возрастом и не размером папахи,
И праздники наши, как будто просты,
Но скрыты в них некие тайные знаки.
Мы празднуем ночь наступленья зимы
И сотни костров разжигаем на скалах,
Чтоб путник, попавший в объятия тьмы,
Не сбился с дороги, шагая устало.
Еще, когда первый весенний цветок
Проклюнется вдруг из-за талого снега
И с гор побежит оголтелый поток,
И дождь серебристый посыплется с неба.
И первую плуг проведет борозду…
Мы день этот издревле празднуем тоже,
Чтоб голос аульской зурны за версту
Округу от зимнего сна растревожил.
И день молотьбы мы отметим потом,
Быков круторогих по кругу гоняя,
Полову отделим от зерен, чтоб дом
Пьянил, как буза, хлебный дух урожая.
Затем мы отпразднуем День чабана
И День рыбака не забудем отметить,
Ведь, к счастью, ни тем, ни другим не бедна
Земля, на которой растут наши дети.
Еще мы отпразднуем праздник цветов
И спляшем на празднике первой черешни:
Умоемся соком ее и на стол,
Наполнив корзины, поставим, конечно.
И праздник, который дороже всего,
Отметим мы дружно — Девятое мая,
Живых поздравляя с приходом его
И павшим последнюю дань отдавая.
Как сладок и горек для нас этот день
Великой и неповторимой Победы,
В едином порыве сплотивший везде
Отцов с сыновьями и с внуками дедов.
Кому восемнадцать, кому сорок пять,
Кому и за семьдесят перевалило…
Но и в избранный День этот всех нас опять
Связует какая-то высшая сила.
И те, кто прошел сквозь горнило войны,
В неполных семнадцать взрослея в атаках,
Ни в креслах дождались своей седины,
А под артобстрелом в пылающих танках.
Мне дважды по двадцать, и вот я уже
По третьему кругу идти собираюсь,
Покуда мой конь не устал и в душе
Еще не померкла беспечная радость.
Вперед, мой крылатый! Тебе не страшны
Ни горы, ни волчьи голодные стаи,
Хоть жизнью года мои обожжены,
Я двадцатилетним себя ощущаю.
Ведь чем безрассуднее я, тем юней!
И в этой стране расцветающих вишен
На празднике двадцатилетних людей
Мой голос пускай не окажется лишним.
Пускай не погаснет до срока звезда,
Пусть в сыр молоко превратится в кувшине
И соком наполнится мякоть плода,
Как желтая корочка на мандарине.
Пускай океан бороздят корабли,
Пусть птицы вернутся когда-нибудь с юга.
И здесь, далеко от родимой земли,
Влюбленные руки протянут друг другу.
Пускай журавли закурлычут весной
И зазеленеет опять Фудзияма…
Пусть все это сбудется с вами, со мной,
С моею, в ауле оставшейся, мамой.
Пусть те, кому двадцать сегодня всего,
Увидят начало грядущего века,
Который не так уж от них далеко,
Хватило бы только им сил для разбега.
О, двадцатилетие — праздник любви,
Непоколебимых надежды и веры!
Пускай твоя страсть не остынет в крови,
Не зная ни в чем ни расчета, ни меры.
В далекой Японии в зимнем саду,
Что был, как январское утро, прекрасным,
Я видел, как сон наяву, как мечту.
Всеобщего двадцатилетия праздник.
С какого такого заветного слова,
Которое жжет мою грудь по ночам,
Чтоб вырваться снова из плена немого.
С мечтою о ней я покинул свой дом
И с думой о ней возвратился с чужбины…
О чем эта странная песня, о ком
Рыдает во мне, словно клин журавлиный?
… В Японии я в январе побывал,
В чудесной стране восходящего солнца,
И сразу попал, с корабля да на бал,
На празднество двадцатилетних японцев.
Какой удивительный праздник! Его
Увы, не сравнить с нашим Днем молодежи.
Он только для тех, кому двадцать всего —
Ни на год не старше, ни на день моложе.
В саду императора юность страны
Сверкала, как радуга в небе, где краски,
Сливаясь, приветствовать были должны
Всеобщего двадцатилетия праздник.
Прекрасная юность! Ты, как кимоно,
Затейливой лентой причудливой ткани
Струилась повсюду, стекаясь в одно
Глубокое русло безумных желаний.
Хотел бы обнять я твою красоту!
Как много сегодня вокруг новобрачных,
Которых по взглядам видать за версту —
Не встретить здесь физиономии мрачной.
Два десятилетья у них позади…
Вращается время, как будто пластинка,
И все ж они в самом начале пути,
Где все им желанно, где все им в новинку.
Двадцатая зрелость, о, как ты юна!
Танцуя без устали вальсы и твисты,
Ты огненной музыкой опьянена…
Хмелеешь от хохота, словно от виски.
Весь Токио нынче танцует с тобой,
И кажется мне, что быстрей в этот вечер
Вращается даже наш шар голубой,
Спеша восходящему солнцу навстречу.
Вдруг головы всех устремляются ниц…
И, приподнимая столетий завесу,
Как в сказке, в саду появляется принц
С прекрасною Золушкой, ставшей принцессой.
Покуда традиции строго храня,
Стоит молодежь в восхищенном поклоне,
Супруги, и возгласа не оброня,
На лестницу чинно восходят, как пони.
И принц произносит короткую речь…
И хоть мне, аварцу, язык тот неведом,
Я чувствую — он лаконичен, как меч,
Приученный к молниеносным победам.
А юность с почтеньем внимает ему,
Как сакура в зимнем саду расцветая,
И только один я никак не пойму,
Что может январь быть прекраснее мая.
О, двадцатилетие! Это пора,
Быть может, всего благодатней на свете?..
Я вспомнил аульские те вечера,
Где был я мальчишкой семнадцатилетним.
И девушка та, по которой вздыхал,
Была меня старше всего на три года…
Но сверстник ее, будто бы аксакал,
Глядел сверху вниз неприступно и гордо.
Ах, лучше бы вовсе их не вспоминать…
Но памяти вновь я листаю страницы
И вижу там Каспий, где мне двадцать пять,
А рядом прекрасные девичьи лица.
Им только по двадцать, не больше того,
А я уже в жизни немало изведал,
И сердце вскипает в груди оттого,
Что мне безразличны былые победы.
А вот тридцать шесть мне пробило уже —
Бурлит фестиваль на московских бульварах,
И я с непонятной тоскою в душе
Любуюсь на двадцатилетние пары.
А нынче мне стукнуло аж сорок два…
Пора уже с ярмарки мне возвращаться,
Но кругом, как прежде, идет голова,
Как будто мне будет пожизненно двадцать.
И улицы Токио, словно магнит,
Мятежную душу мою привлекают,
И вечер январский так жадно манит,
Цветением юности благоухая.
Но вдруг чей-то голос, как рокот реки,
Которая с гор устремляется к морю
Возник неожиданно, словно стихи,
В бессмысленном и бытовом разговоре.
Японец седой мне напомнил отца,
Он спутнице юной шептал что-то страстно,
И сразу же я угадал в нем певца
По звукам, которые были прекрасны.
И прежде такой непонятный язык
Вдруг настежь открыл золотые ворота
И хлынул, как ливень, причудливый стих,
Что стал мне понятен и без перевода.
Как горное эхо, пронеся вдали,
Чтобы многократно в душе повториться
И чтоб я на краешке самом земли
Себя ощутил на мгновение принцем.
Аварский поэт… До меня никогда
Нога дагестанца сюда не ступала,
И вот я сверкаю, как будто звезда,
В созвездии этого юного бала.
Но двадцатилетние люди, увы,
Проносятся с хохотом, словно кометы,
Не зная, быть может, что я из Москвы
Приехал к ним в гости на празднество это.
И гор моих снежных гортанный язык,
Наверное, тоже еще им неведом.
Он чем-то похож на пронзительный крик
Того журавля, что прощается с летом.
Не знают они и обычаи гор,
Суровых и нежных, откуда я родом,
Где старая мама моя до сих пор
Все ждет меня, не запирая ворота.
А я из Японии дальней смотрю
На звезды, что в путь отправляются млечный,
И кажется, будто бы с ней говорю
На нашем родимом аварском наречье.
И песня, как завязь, как робкий росток,
В душе созревает, чтоб к свету пробиться…
Но падает, как календарный листок,
И камнем летит, как подбитая птица.
Неспетая песня… Вдруг оборвалась
Она невзначай, как струна на пандуре,
И с нею исчезла незримая связь
Меж прошлым и будущим, штилем и бурей.
Но в памяти цепкой, как прежде, жива
Та неповторимая звонкая нота,
Что в сердце моем, зародившись едва,
Готова была для большого полета.
Неспетая песня… В Кавказских горах
Не празднуют двадцатилетия праздник,
И зрелости время у нас на часах
Толкуют иначе в селениях разных.
Мгновенья бегут… Проплывают века.
Седеют от вьюг и раздумий вершины.
Но времени нить не прервется, пока
Растут и взрослеют в аулах мужчины.
Вот этот и в десять уже удалец,
К пятнадцати он возмужает до срока.
А тот, хоть и сед, но трусливый подлец,
Не будет ему и от старости прока.
О, зрелость, в горах измеряешься ты
Не возрастом и не размером папахи,
И праздники наши, как будто просты,
Но скрыты в них некие тайные знаки.
Мы празднуем ночь наступленья зимы
И сотни костров разжигаем на скалах,
Чтоб путник, попавший в объятия тьмы,
Не сбился с дороги, шагая устало.
Еще, когда первый весенний цветок
Проклюнется вдруг из-за талого снега
И с гор побежит оголтелый поток,
И дождь серебристый посыплется с неба.
И первую плуг проведет борозду…
Мы день этот издревле празднуем тоже,
Чтоб голос аульской зурны за версту
Округу от зимнего сна растревожил.
И день молотьбы мы отметим потом,
Быков круторогих по кругу гоняя,
Полову отделим от зерен, чтоб дом
Пьянил, как буза, хлебный дух урожая.
Затем мы отпразднуем День чабана
И День рыбака не забудем отметить,
Ведь, к счастью, ни тем, ни другим не бедна
Земля, на которой растут наши дети.
Еще мы отпразднуем праздник цветов
И спляшем на празднике первой черешни:
Умоемся соком ее и на стол,
Наполнив корзины, поставим, конечно.
И праздник, который дороже всего,
Отметим мы дружно — Девятое мая,
Живых поздравляя с приходом его
И павшим последнюю дань отдавая.
Как сладок и горек для нас этот день
Великой и неповторимой Победы,
В едином порыве сплотивший везде
Отцов с сыновьями и с внуками дедов.
Кому восемнадцать, кому сорок пять,
Кому и за семьдесят перевалило…
Но и в избранный День этот всех нас опять
Связует какая-то высшая сила.
И те, кто прошел сквозь горнило войны,
В неполных семнадцать взрослея в атаках,
Ни в креслах дождались своей седины,
А под артобстрелом в пылающих танках.
Мне дважды по двадцать, и вот я уже
По третьему кругу идти собираюсь,
Покуда мой конь не устал и в душе
Еще не померкла беспечная радость.
Вперед, мой крылатый! Тебе не страшны
Ни горы, ни волчьи голодные стаи,
Хоть жизнью года мои обожжены,
Я двадцатилетним себя ощущаю.
Ведь чем безрассуднее я, тем юней!
И в этой стране расцветающих вишен
На празднике двадцатилетних людей
Мой голос пускай не окажется лишним.
Пускай не погаснет до срока звезда,
Пусть в сыр молоко превратится в кувшине
И соком наполнится мякоть плода,
Как желтая корочка на мандарине.
Пускай океан бороздят корабли,
Пусть птицы вернутся когда-нибудь с юга.
И здесь, далеко от родимой земли,
Влюбленные руки протянут друг другу.
Пускай журавли закурлычут весной
И зазеленеет опять Фудзияма…
Пусть все это сбудется с вами, со мной,
С моею, в ауле оставшейся, мамой.
Пусть те, кому двадцать сегодня всего,
Увидят начало грядущего века,
Который не так уж от них далеко,
Хватило бы только им сил для разбега.
О, двадцатилетие — праздник любви,
Непоколебимых надежды и веры!
Пускай твоя страсть не остынет в крови,
Не зная ни в чем ни расчета, ни меры.
В далекой Японии в зимнем саду,
Что был, как январское утро, прекрасным,
Я видел, как сон наяву, как мечту.
Всеобщего двадцатилетия праздник.
II
Вновь город укрыла полночная тьма,
Вернулся в гостиницу я неохотно,
И юности праздник, сводящий с ума,
Остался, как прошлое, за поворотом.
Сосед мой по номеру хмур был, как ночь,
Он мерил шагами квадратные метры…
Не ведая, как ему можно помочь,
Я кресло подвинул к нему незаметно.
— Присядь же, приятель, в ногах правды нет.
Хоть, может быть, и не мое это дело,
Но чем же ты так опечален сосед,
Что кажется черным тебе свет наш белый?
И острое слово его, как игла,
Вошла прямо в сердце мне невыносимо:
— Сегодня счет с юною жизнью свела
Японская девушка из Хиросимы…
Ей было лишь двадцать… Но, Боже мой, как
В тот день, когда юность страны ликовала
Решилась она на трагический шаг?..
Неужто ей мать ее не помешала?
— Она сирота, — обречено сказал
Товарищ мой и закурил сигарету…
Ладонью он влажные вытер глаза
И повесть продолжил печальную эту.
— Представь себе: лето — вокруг благодать,
Жара августовская невыносима,
И нянчится двадцатилетняя мать
С младенцем в одном из домов Хиросимы.
Чудесной девчушке и годика нет…
Под вишнею мама ее укачала
И в дом возвратилась готовить обед…
Ах, если бы это начать все сначала!
Но прошлое не возвратить никому,
Лишь память одна туда знает дорогу.
Лежит городок в предрассветном дыму
Так тихо, как будто он молится Богу.
А там наверху, в ледяной вышине,
Уже равномерно рокочут моторы
И бомба, застывшая, словно во сне,
На мирную землю обрушится скоро.
Мгновенье… И палец на кнопку нажал…
Младенец лежит в колыбели под вишней,
А сверху летит смертоносный металл,
Что не остановит уже и Всевышний.
И гриб, разрастаясь у всех на глазах,
Как чудище, мир растерзал кровожадно…
И замерло время на мертвых часах,
Которым уже ничего здесь не жалко.
… А летчик с заданья вернулся домой,
Устроился в кресле с дочуркою рядом
И к сердцу прижал ею той же рукой,
Которой на город он сбрасывал атом.
И девочка нежно прильнула к нему,
И сжала ладонь его с детскою силой,
Не зная о том, что в огне и в дыму
Распятая бомбой лежит Хиросима.
Где бедный младенец под вишней кричит,
Но мать его больше уже не услышит —
В воронке от дома дымят кирпичи,
И воздух отравлен, а девочка дышит…
Пройдет двадцать лет, и узнает она
О том, что болезнь у нее лучевая…
Помедлит немного в проеме окна
И вниз устремится, глаза закрывая.
Одна из ста тысяч таких же сирот,
Не знавшая с детства родительской ласки…
В тот август отец ее бедный в живот
Вонзил от отчаянья меч самурайский.
Тогда ему столько же было, как ей,
И он не сумел пережить Хиросимы —
О смерти семьи он услышал своей,
И в сердце отчаянье не пересилил.
Но если б он знал, что жива его дочь,
Которую вишня, как мать заслонила,
Он смог бы отчаянье свое превозмочь
И меч спрятать в ножны… Но было, что было.
И больше на свете их нет — всех троих…
И это одна только жертва из многих,
Цветущих, как сакура, и молодых,
Отважных и робких, веселых и строгих.
Их вычеркнул атомной бомбы удар,
Как будто бы вырвал из книги страницу…
Без них стал неполным земной этот шар,
Забывший их неповторимые лица.
С тех пор непонятно, где ад, а где рай,
Как будто исчезла гармония в мире,
Который, отчаявшись, как самурай,
В конце концов, сделал себе харакири.
И красная кровь по планете бежит
Из этой открытой дымящейся раны,
А с ней незаметно уходит и жизнь,
Которую мы не храним, как ни странно.
О люди! Какие найти мне слова,
Чтоб вы хоть на миг осознали все это?
Покуда в нас совесть и вера жива,
Не сможет погибнуть и наша планета.
Вернулся в гостиницу я неохотно,
И юности праздник, сводящий с ума,
Остался, как прошлое, за поворотом.
Сосед мой по номеру хмур был, как ночь,
Он мерил шагами квадратные метры…
Не ведая, как ему можно помочь,
Я кресло подвинул к нему незаметно.
— Присядь же, приятель, в ногах правды нет.
Хоть, может быть, и не мое это дело,
Но чем же ты так опечален сосед,
Что кажется черным тебе свет наш белый?
И острое слово его, как игла,
Вошла прямо в сердце мне невыносимо:
— Сегодня счет с юною жизнью свела
Японская девушка из Хиросимы…
Ей было лишь двадцать… Но, Боже мой, как
В тот день, когда юность страны ликовала
Решилась она на трагический шаг?..
Неужто ей мать ее не помешала?
— Она сирота, — обречено сказал
Товарищ мой и закурил сигарету…
Ладонью он влажные вытер глаза
И повесть продолжил печальную эту.
— Представь себе: лето — вокруг благодать,
Жара августовская невыносима,
И нянчится двадцатилетняя мать
С младенцем в одном из домов Хиросимы.
Чудесной девчушке и годика нет…
Под вишнею мама ее укачала
И в дом возвратилась готовить обед…
Ах, если бы это начать все сначала!
Но прошлое не возвратить никому,
Лишь память одна туда знает дорогу.
Лежит городок в предрассветном дыму
Так тихо, как будто он молится Богу.
А там наверху, в ледяной вышине,
Уже равномерно рокочут моторы
И бомба, застывшая, словно во сне,
На мирную землю обрушится скоро.
Мгновенье… И палец на кнопку нажал…
Младенец лежит в колыбели под вишней,
А сверху летит смертоносный металл,
Что не остановит уже и Всевышний.
И гриб, разрастаясь у всех на глазах,
Как чудище, мир растерзал кровожадно…
И замерло время на мертвых часах,
Которым уже ничего здесь не жалко.
… А летчик с заданья вернулся домой,
Устроился в кресле с дочуркою рядом
И к сердцу прижал ею той же рукой,
Которой на город он сбрасывал атом.
И девочка нежно прильнула к нему,
И сжала ладонь его с детскою силой,
Не зная о том, что в огне и в дыму
Распятая бомбой лежит Хиросима.
Где бедный младенец под вишней кричит,
Но мать его больше уже не услышит —
В воронке от дома дымят кирпичи,
И воздух отравлен, а девочка дышит…
Пройдет двадцать лет, и узнает она
О том, что болезнь у нее лучевая…
Помедлит немного в проеме окна
И вниз устремится, глаза закрывая.
Одна из ста тысяч таких же сирот,
Не знавшая с детства родительской ласки…
В тот август отец ее бедный в живот
Вонзил от отчаянья меч самурайский.
Тогда ему столько же было, как ей,
И он не сумел пережить Хиросимы —
О смерти семьи он услышал своей,
И в сердце отчаянье не пересилил.
Но если б он знал, что жива его дочь,
Которую вишня, как мать заслонила,
Он смог бы отчаянье свое превозмочь
И меч спрятать в ножны… Но было, что было.
И больше на свете их нет — всех троих…
И это одна только жертва из многих,
Цветущих, как сакура, и молодых,
Отважных и робких, веселых и строгих.
Их вычеркнул атомной бомбы удар,
Как будто бы вырвал из книги страницу…
Без них стал неполным земной этот шар,
Забывший их неповторимые лица.
С тех пор непонятно, где ад, а где рай,
Как будто исчезла гармония в мире,
Который, отчаявшись, как самурай,
В конце концов, сделал себе харакири.
И красная кровь по планете бежит
Из этой открытой дымящейся раны,
А с ней незаметно уходит и жизнь,
Которую мы не храним, как ни странно.
О люди! Какие найти мне слова,
Чтоб вы хоть на миг осознали все это?
Покуда в нас совесть и вера жива,
Не сможет погибнуть и наша планета.
III
Не знаю, с чего эту песню начать,
С какого такого заветного слова?
Она, словно рана, болит по ночам,
Которая не зарубцуется снова.
В ненастье и в зной она ноет во мне,
Как будто бы нет от нее исцеленья.
Проснусь среди ночи, а сердце в огне,
В том дьявольском пламени самосожженья.
И полночь не полночь, и день мне не день…
Проклятая рана зудит бесконечно,
Как будто меня чья-то страшная тень,
Дыша мне в затылок, преследует вечно.
И в сон мой врывается, словно бронхит,
Удушливым кашлем меня истязая.
И даже в беспамятстве полном болит,
Когда от тоски закрываю глаза я.
Любовь убивая и радость в душе,
Она на мгновение не заживает.
И нет больше сил с ней бороться уже,
Вся жизнь — словно рана одна ножевая.
Неспетая песня… В далекой стране
На празднике юности двадцатилетней
Впервые ты в сердце явилась ко мне
Затем, может быть, чтоб назваться последней.
Терзаемый мукой твоей по ночам,
Я в бары стремился, чтоб стало мне легче,
Где гейши с бездонной печалью в очах
Холодные руки мне клали на плечи.
Я помню, как голос мой нервно дрожал,
Когда за любовную ласку несмело
Я трогал, как будто бы кончик ножа,
Горячей ладонью продажное тело.
И думал о том, что у нас бы она
Известной артисткой, наверное, стала…
А здесь одиноко стоит у окна
И комкает пальцами край одеяла.
Я видел прозрачные слезы ее,
Которые падали в вазу с цветами…
И в это мгновение сердце мое
В груди бушевало, как будто цунами.
У каждого радость своя и тоска…
Хотя и не знала она Хиросимы,
Но жизнь этой гейши в объятьях греха
Была до безумия невыносима.
В своем мьюзик-холле уже никогда
Она не узнает любви неподкупной
И красный фонарь, словно злая звезда,
Ее мимолетную юность погубит.
… Потом, по дороге домой, на два дня
Я вдруг задержался в отеле Бангкока,
Что встретил неоновым светом меня
И липким соблазном зашторенных окон.
Я помню в каком-то ночном кабаке
Красотку раскосую из Таиланда,
Она демонстрировала налегке
Все прелести странного в мире таланта.
Снимая одежду одну за другой,
Как будто с цветка лепестки обрывая,
И музыке в такт извиваясь змеей,
Осталась она совершенно нагая.
Но плечи худые дрожали слегка,
Как те лепестки, унесенные ветром
Подальше от тоненького стебелька,
Который от зноя умрет незаметно.
Похабные выкрики, словно плевки,
Летели в ее обнаженное тело,
Но ярких одежек своих лепестки
Поднять все равно бы она не посмела.
Стояла, сверкая своей наготой,
Среди похотливых звериных улыбок.
И острый осколок души ледяной
Впивался в меня, придавив, будто глыба.
Всю ночь по ушным перепонкам стучал
Ударник, нанюхавшийся кокаина,
И билось в висках: ча-ча-ча, ча-ча-ча!..
А в сердце — пронзительный крик журавлиный.
На землю меня возвратил он с небес,
А, может быть, — в рай из угарного ада…
Глаза я открыл — милый образ исчез,
Моряк из Техаса сидел со мной рядом.
Он виски потягивал, как лимонад,
На голых смуглянок взирая с ухмылкой,
И был одному только искренне рад,
Когда приносили другую бутылку.
В Сайгоне, В Сеуле, у черта в зубах —
Везде воевал, а не ранен ни разу…
И спьяну признался, что это — судьба,
Хотя он не может терпеть желтомазых.
Моряк из Техаса по свету кружит,
И я с моей песней кружусь недопетой —
Она без конца и начала, как жизнь,
Где следуют за пораженьем победы.
Но все возвратится на круги своя
И все устремится к своей сердцевине,
Где мама моя и жена, и семья,
Которым так много я должен отныне.
Но вновь центробежная сила меня,
Отторгнув от дома, помчала по свету,
Чтоб в полночь или среди белого дня
Я встретился с песней моей недопетой.
Но где она?.. Может, в Париже хмельном,
Где тень Нотр-Дама нависла громадой?
А, может, в Мадриде стоит под окном,
Лаская изысканный слух серенадой?
Иль, может, в каком-то шальном кабаре
Опять донага раздевается где-то,
Судьбу подчиняя азартной игре,
Ведь даже планета, как девка, раздета!
И падают, словно снаряды с небес,
Ее голубые святые одежды:
Честь, верность, любовь — и уже она без
Того, без чего не бывает надежды.
И азбукой морзе летит ча-ча-ча
Опять триумфально из города в город,
Но совесть, как шуба, слетает с плеча
И ахают все, ведь король-то наш голый!..
В его государстве вновь царствует зло
И ложь ковыляет на глиняных ножках,
И пьяная баба своим помелом
До блеска дворцовые чистит дорожки.
Запретная зона… Я здесь никогда
Свою недопетую песню не встречу,
Уж лучше мне снова вернуться в Цада,
Где громче поется и дышится легче.
А, может, податься мне в шумный Бомбей,
Где девушки смотрят из окон печально
В надежде дождаться любимых парней,
Что их окольцуют венком обручальным?
О, как же униженна их красота,
Годами, которые тянутся долго,
Пока, наконец, молодая мечта
Состарится, так и не выйдя из дома.
В Берлине, в Гонконге, в Сеуле — везде,
Где я побывал в своих поисках вечных
И где поклонялся земной красоте,
Печалясь о том, как она быстротечна.
Как будто бы женщин преследует рок —
В семнадцать наивны они и прекрасны,
Но только коснется лица их порок,
Они уже и через год безобразны.
И плечи покаты, и ноги кривы…
А сердце?.. Как будто гадюка живая,
Но та от природы такая, увы,
А что же девичью судьбу искривляет?
Нет, я никого не пытаюсь винить:
Ни девушек этих, ни дальние страны…
Во мне недопетая песня звенит,
На миг заглушив даже рев океана.
И вновь ускользает, как рыба из рук,
Густой чешуею на солнце сверкая.
И сразу сжимается сердце, а вдруг
Уже никогда я ее не поймаю?..
Неспетая песня… Но, может быть, я
Искал ее вовсе не там и не с теми,
Когда устремлялся в чужие края,
Преодолевая пространство и время?
В Сантьяго, в Чикаго, в Оттаве — везде:
И в солнечном Рио, и в пасмурном Осло,
При свете неоновом и в темноте
Мне было найти эту песню непросто.
Но интуитивно я шел наугад,
Блуждая один в городских лабиринтах,
Где каждый квартал, будто каменный сад
В греховной ночи пламенел гиацинтом.
В безумной Америке, где авеню
Манят ослепительным блеском рекламы,
Я видел умопомрачительных ню
На грязных подмостках нью-йоркских бедламов.
Там царствовал доллар — невежа и плут,
И с пьяной ухмылкой бахвалился рьяно,
Что в мире подлунном, где все продают,
Ему даже совесть купить по карману.
Какую угодно на ощупь и цвет
У нищего нигера и президента,
Поскольку нигде такой совести нет,
Чтоб не продавалась согласно моменту.
Все цену имеет — и плоть, и душа,
И только лишь то неподкупно на свете,
За что не дается никем ни гроша,
Чтоб зря не выбрасывать деньги на ветер.
И тысячи двадцатилетних сердец
Внимают с восторгом губительной речи,
Которая, их превращая в овец,
На бойне какой-нибудь всех искалечит.
В Корее, Вьетнаме?.. Не все ли равно,
Где в голову юного выстрелит юный,
Как будто бы не наяву, а в кино
Сражаются на смерть хазары и гунны.
Но мы же не варвары в веке своем,
Тогда по какой же указке незримой
Палим без разбора и ночью, и днем
По мирным селеньям, как по Хиросиме?
Одно из таких называлось Сонгми…
Теперь его нет уже больше на карте.
Но те, кто отважно сражались с детьми,
О Божьей, как видно, не ведали каре.
О двадцатилетние, мир полон слез,
Так не приближайте агонию мира,
Чтоб «быть иль не быть?» — этот вечный вопрос
Остался навек лишь в твореньях Шекспира.
С какого такого заветного слова?
Она, словно рана, болит по ночам,
Которая не зарубцуется снова.
В ненастье и в зной она ноет во мне,
Как будто бы нет от нее исцеленья.
Проснусь среди ночи, а сердце в огне,
В том дьявольском пламени самосожженья.
И полночь не полночь, и день мне не день…
Проклятая рана зудит бесконечно,
Как будто меня чья-то страшная тень,
Дыша мне в затылок, преследует вечно.
И в сон мой врывается, словно бронхит,
Удушливым кашлем меня истязая.
И даже в беспамятстве полном болит,
Когда от тоски закрываю глаза я.
Любовь убивая и радость в душе,
Она на мгновение не заживает.
И нет больше сил с ней бороться уже,
Вся жизнь — словно рана одна ножевая.
Неспетая песня… В далекой стране
На празднике юности двадцатилетней
Впервые ты в сердце явилась ко мне
Затем, может быть, чтоб назваться последней.
Терзаемый мукой твоей по ночам,
Я в бары стремился, чтоб стало мне легче,
Где гейши с бездонной печалью в очах
Холодные руки мне клали на плечи.
Я помню, как голос мой нервно дрожал,
Когда за любовную ласку несмело
Я трогал, как будто бы кончик ножа,
Горячей ладонью продажное тело.
И думал о том, что у нас бы она
Известной артисткой, наверное, стала…
А здесь одиноко стоит у окна
И комкает пальцами край одеяла.
Я видел прозрачные слезы ее,
Которые падали в вазу с цветами…
И в это мгновение сердце мое
В груди бушевало, как будто цунами.
У каждого радость своя и тоска…
Хотя и не знала она Хиросимы,
Но жизнь этой гейши в объятьях греха
Была до безумия невыносима.
В своем мьюзик-холле уже никогда
Она не узнает любви неподкупной
И красный фонарь, словно злая звезда,
Ее мимолетную юность погубит.
… Потом, по дороге домой, на два дня
Я вдруг задержался в отеле Бангкока,
Что встретил неоновым светом меня
И липким соблазном зашторенных окон.
Я помню в каком-то ночном кабаке
Красотку раскосую из Таиланда,
Она демонстрировала налегке
Все прелести странного в мире таланта.
Снимая одежду одну за другой,
Как будто с цветка лепестки обрывая,
И музыке в такт извиваясь змеей,
Осталась она совершенно нагая.
Но плечи худые дрожали слегка,
Как те лепестки, унесенные ветром
Подальше от тоненького стебелька,
Который от зноя умрет незаметно.
Похабные выкрики, словно плевки,
Летели в ее обнаженное тело,
Но ярких одежек своих лепестки
Поднять все равно бы она не посмела.
Стояла, сверкая своей наготой,
Среди похотливых звериных улыбок.
И острый осколок души ледяной
Впивался в меня, придавив, будто глыба.
Всю ночь по ушным перепонкам стучал
Ударник, нанюхавшийся кокаина,
И билось в висках: ча-ча-ча, ча-ча-ча!..
А в сердце — пронзительный крик журавлиный.
На землю меня возвратил он с небес,
А, может быть, — в рай из угарного ада…
Глаза я открыл — милый образ исчез,
Моряк из Техаса сидел со мной рядом.
Он виски потягивал, как лимонад,
На голых смуглянок взирая с ухмылкой,
И был одному только искренне рад,
Когда приносили другую бутылку.
В Сайгоне, В Сеуле, у черта в зубах —
Везде воевал, а не ранен ни разу…
И спьяну признался, что это — судьба,
Хотя он не может терпеть желтомазых.
Моряк из Техаса по свету кружит,
И я с моей песней кружусь недопетой —
Она без конца и начала, как жизнь,
Где следуют за пораженьем победы.
Но все возвратится на круги своя
И все устремится к своей сердцевине,
Где мама моя и жена, и семья,
Которым так много я должен отныне.
Но вновь центробежная сила меня,
Отторгнув от дома, помчала по свету,
Чтоб в полночь или среди белого дня
Я встретился с песней моей недопетой.
Но где она?.. Может, в Париже хмельном,
Где тень Нотр-Дама нависла громадой?
А, может, в Мадриде стоит под окном,
Лаская изысканный слух серенадой?
Иль, может, в каком-то шальном кабаре
Опять донага раздевается где-то,
Судьбу подчиняя азартной игре,
Ведь даже планета, как девка, раздета!
И падают, словно снаряды с небес,
Ее голубые святые одежды:
Честь, верность, любовь — и уже она без
Того, без чего не бывает надежды.
И азбукой морзе летит ча-ча-ча
Опять триумфально из города в город,
Но совесть, как шуба, слетает с плеча
И ахают все, ведь король-то наш голый!..
В его государстве вновь царствует зло
И ложь ковыляет на глиняных ножках,
И пьяная баба своим помелом
До блеска дворцовые чистит дорожки.
Запретная зона… Я здесь никогда
Свою недопетую песню не встречу,
Уж лучше мне снова вернуться в Цада,
Где громче поется и дышится легче.
А, может, податься мне в шумный Бомбей,
Где девушки смотрят из окон печально
В надежде дождаться любимых парней,
Что их окольцуют венком обручальным?
О, как же униженна их красота,
Годами, которые тянутся долго,
Пока, наконец, молодая мечта
Состарится, так и не выйдя из дома.
В Берлине, в Гонконге, в Сеуле — везде,
Где я побывал в своих поисках вечных
И где поклонялся земной красоте,
Печалясь о том, как она быстротечна.
Как будто бы женщин преследует рок —
В семнадцать наивны они и прекрасны,
Но только коснется лица их порок,
Они уже и через год безобразны.
И плечи покаты, и ноги кривы…
А сердце?.. Как будто гадюка живая,
Но та от природы такая, увы,
А что же девичью судьбу искривляет?
Нет, я никого не пытаюсь винить:
Ни девушек этих, ни дальние страны…
Во мне недопетая песня звенит,
На миг заглушив даже рев океана.
И вновь ускользает, как рыба из рук,
Густой чешуею на солнце сверкая.
И сразу сжимается сердце, а вдруг
Уже никогда я ее не поймаю?..
Неспетая песня… Но, может быть, я
Искал ее вовсе не там и не с теми,
Когда устремлялся в чужие края,
Преодолевая пространство и время?
В Сантьяго, в Чикаго, в Оттаве — везде:
И в солнечном Рио, и в пасмурном Осло,
При свете неоновом и в темноте
Мне было найти эту песню непросто.
Но интуитивно я шел наугад,
Блуждая один в городских лабиринтах,
Где каждый квартал, будто каменный сад
В греховной ночи пламенел гиацинтом.
В безумной Америке, где авеню
Манят ослепительным блеском рекламы,
Я видел умопомрачительных ню
На грязных подмостках нью-йоркских бедламов.
Там царствовал доллар — невежа и плут,
И с пьяной ухмылкой бахвалился рьяно,
Что в мире подлунном, где все продают,
Ему даже совесть купить по карману.
Какую угодно на ощупь и цвет
У нищего нигера и президента,
Поскольку нигде такой совести нет,
Чтоб не продавалась согласно моменту.
Все цену имеет — и плоть, и душа,
И только лишь то неподкупно на свете,
За что не дается никем ни гроша,
Чтоб зря не выбрасывать деньги на ветер.
И тысячи двадцатилетних сердец
Внимают с восторгом губительной речи,
Которая, их превращая в овец,
На бойне какой-нибудь всех искалечит.
В Корее, Вьетнаме?.. Не все ли равно,
Где в голову юного выстрелит юный,
Как будто бы не наяву, а в кино
Сражаются на смерть хазары и гунны.
Но мы же не варвары в веке своем,
Тогда по какой же указке незримой
Палим без разбора и ночью, и днем
По мирным селеньям, как по Хиросиме?
Одно из таких называлось Сонгми…
Теперь его нет уже больше на карте.
Но те, кто отважно сражались с детьми,
О Божьей, как видно, не ведали каре.
О двадцатилетние, мир полон слез,
Так не приближайте агонию мира,
Чтоб «быть иль не быть?» — этот вечный вопрос
Остался навек лишь в твореньях Шекспира.
IV
Не знаю, с чего эту песню начать,
Таинственную, как лицо под вуалью,
Которое виделось мне по ночам,
Но утром скрывалось за синею шалью.
И вдруг мне припомнилось время, когда
Я сам был мальчишкою двадцатилетним…
В тот год к нам нагрянула в саклю беда,
Которая так и не стала последней.
Мой брат в Балашове скончался от ран…
И старый отец наш — поэт и философ,
Над свежей могилой стоял до утра,
Роняя скупые отцовские слезы.
А мама достала свой черный платок,
Чтоб спрятать под ним побелевшие пряди…
Об этом я несколько горестных строк
Тогда записал в своей школьной тетради.
И средний мой брат не вернулся с войны,
В земле черноморской остался навеки,
Чуть-чуть не дожив до победной весны,
Что в горный аул ворвалась, словно ветер.
Раздвинула занавес туч грозовых,
Чтоб хлынуло майское солнце на скалы,
Которые в шапках своих снеговых
Стояли угрюмые, как аксакалы.
И мир засиял, словно медный кувшин.
Наполненный чистой прохладной водою,
Небесную высь и равнинную ширь
От вечной вражды заслоняя собою.
Так было когда-то в том мае хмельном,
Что выцвел с годами, как старое фото,
Которое время в семейный альбом
На память упрятало бесповоротно.
Но тут же забыло… И снова вражда
Из пепла воскресла, из мрака, из тлена,
Чтоб облаком смрадным накрыть города,
Земле угрожая и целой вселенной.
И вновь старику уподобился мир,
Который в предчувствии смертного часа
Не может о страхе забыть ни на миг
И с криком о помощи медленно чахнет.
Наш мир! Сотворенный из многих страстей,
Из зла и добра, как из плоти и духа,
Вновь корчится в противоборстве идей,
Как будто лишен он и зренья, и слуха.
То в море невежества блещет умом.
То в куче отбросов сверкает талантом.
То тускл он, как грязи слежавшийся ком,
А то ослепляет глаза бриллиантом.
Он проклят стократно и столько ж любим,
Наш мир многоликий, великий и странный.
Готов на колени я пасть перед ним,
Прижавшись щекою к груди океана.
Чтоб слушать огромное сердце его —
Биенье источников, волн и вулканов
И взрывы торпедных ракет и всего,
Что совесть во мне бередит, словно рану.
Сверкающий мир!.. Кто ты?.. Юный жених,
На свадьбе познавший бессмертную силу?
А, может, худое затеявший, псих,
Что смотрит с восторгом в свою же могилу?
Блуждающий мир!.. Кто ты?.. Слабая плоть,
Что ждет исцеленья от долгой болезни?
Иль тот самурай, что упал, словно плод,
Пронзив себя насквозь смертельным железом?
Ты песня о жизни иль стон о конце
Той двадцатилетней японки прекрасной,
Что с невыразимой тоской на лице
Навеки покинула юности праздник?
Обманчивый мир!.. Сколько светлых надежд
Швырнул ты, играючи, в темную бездну?..
И вcе же меня хоть намеком утешь,
Что жизнь моя грешная небесполезна.
Что я не напрасно карабкался ввысь
По горной тропинке, блуждающей в скалах.
Что по сердцу все мои песни пришлись
Юнцу желторотому и аксакалу.
И матери старой, что ждет у окна
Из долгого странствия сына седого.
Страшась, что его не узнает она,
Когда, наконец, он появится снова.
И женщинам всем, как единственной той,
Что, будто пророчество, необъяснима —
Вращается в сердце, как шар голубой,
Где горы и степи проносятся мимо.
Изменчивый мир!.. Все равно сохраню
Я верность тебе до последнего слова.
Которое не превратится в броню,
А будет открыто для ветра любого.
И в этом волшебном японском саду,
Где празднуют двадцатилетия праздник,
Хочу я открыто у всех на виду
Тебе пожелать оставаться прекрасным!
Пускай же хороший не станет плохим
И злой человек в добряка превратится.
Здоровый вовек пусть не будет больным
И жизнь его светлая долго продлится.
Скупой станет щедрым, а трус — смельчаком,
Дурак станет умным, хмельной протрезвеет.
Богач пусть поделится с нищим куском,
Голодный насытится, сытый прозреет.
Мир создан для всех, не тяните его
Вы в разные стороны, как одеяло,
Не то не достанется вам ничего,
Живите на свете, довольствуясь малым.
Пусть лучше еще станет каждый из вас,
И пусть этот мир заключит вас в объятья
И вихрем закружит вас юности вальс,
Как будто воздушное бальное платье.
Влюбляйтесь друг в друга! Приснитесь во сне!
Пусть день друг без друга вам кажется скучным.
Прошу, заслоните дорогу войне,
Что вновь надвигается грозною тучей.
Давайте навеки мы соединим
Народы, мелодии, разные страны,
Чтоб за руки крепко держались они,
Коварному не поддаваясь обману.
Как звезды на небе, деревья в лесу,
Как птиц перелетных крылатая стая,
Как бурные волны в Аварском Койсу,
Что к морю Каспийскому путь пролагают.
Всем место найдется под солнцем у нас:
Горе и равнине, пичуге и зверю…
Пока в небесах этот свет не погас,
Надеяться будем, любить мы и верить.
Пускай необъятен людской океан.
Но каждой волне места хватит в нем тоже,
Как сердцу любви, от которой я пьян,
И нет ничего мне любимой дороже.
Но длинные руки у злобы людской,
Она ненавидит счастливые лица.
Когда на земле воцарится покой,
От зависти жгучей ей ночью не спится.
И снова взрываются бомбы тогда,
Когда миром правят пустые обиды.
И ненависть губит опять города
И страны, что канули, как Атлантида.
Одни убивают друг друга, увы,
Другие себя убивают жестоко.
Планета, как рыба, гниет с головы,
И нет, к сожаленью, в ней больше пророка.
И в мире по-прежнему царствует страх,
Он крутит колесики явно и тайно.
Но длится безумная эта игра,
Где выиграть можно всегда лишь случайно.
Ведь мир этот болен и время больно.
Но где от болезни смертельной лекарство?
Неужто совсем не найдется оно,
И рухнут когда-нибудь все государства?
О молодость мира! Одна только ты
Способна еще исцелить землю эту,
Из вечной пустыни кровавой вражды
В пленительный сад превращая планету.
Чтоб солнце сияло, звенели дожди,
И реки весной разливались, как море.
Чтоб мать прижимая младенца к груди,
Не ведала больше ни страха, ни горя.
Чтоб в Индии не голодали вовек
И чтоб во Вьетнаме война прекратилась,
И чтоб милосердным вновь стал человек,
И чтоб снизошла на него Божья милость.
Чтоб снова вернулись весной журавли,
Чтоб вновь из руин Хиросима восстала
И чуткое сердце ранимой земли
От вечных трагедий земных не устало.
О молодость века! Что будет с тобой?
Родишь ли ты нового Гейне, Шекспира?
Скажи мне, где Лермонтов твой и Толстой?
Что завтра ты дашь обновленному миру?
Бетховена? Лорку или Пикассо?
А, может быть, Гитлера и Муссолини?
Чтоб вновь люди стали похожи на сор,
И жизнь их была даже горше полыни.
О молодость века! Вновь в колокол бей,
Чтоб не повторилась трагедия эта,
Чтоб в мертвом саду обгоревших камней
Опять расцветала вишневая ветка.
И к сроку на ней пусть созреют плоды,
Как будто пурпурные капельки крови.
Пусть сбудутся все молодые мечты,
И юность пусть не разминется с любовью.
И песня, которую я так искал,
Пускай зазвучит вдруг аккордом мажорным
В Японии также, как и среди скал
Цадинских, и в каждом селении горном.
О молодость всей необъятной земли!
Я верю в твою чистоту не напрасно,
Пускай улетают мои журавли,
Но ты оставайся такой же прекрасной!
Таинственную, как лицо под вуалью,
Которое виделось мне по ночам,
Но утром скрывалось за синею шалью.
И вдруг мне припомнилось время, когда
Я сам был мальчишкою двадцатилетним…
В тот год к нам нагрянула в саклю беда,
Которая так и не стала последней.
Мой брат в Балашове скончался от ран…
И старый отец наш — поэт и философ,
Над свежей могилой стоял до утра,
Роняя скупые отцовские слезы.
А мама достала свой черный платок,
Чтоб спрятать под ним побелевшие пряди…
Об этом я несколько горестных строк
Тогда записал в своей школьной тетради.
И средний мой брат не вернулся с войны,
В земле черноморской остался навеки,
Чуть-чуть не дожив до победной весны,
Что в горный аул ворвалась, словно ветер.
Раздвинула занавес туч грозовых,
Чтоб хлынуло майское солнце на скалы,
Которые в шапках своих снеговых
Стояли угрюмые, как аксакалы.
И мир засиял, словно медный кувшин.
Наполненный чистой прохладной водою,
Небесную высь и равнинную ширь
От вечной вражды заслоняя собою.
Так было когда-то в том мае хмельном,
Что выцвел с годами, как старое фото,
Которое время в семейный альбом
На память упрятало бесповоротно.
Но тут же забыло… И снова вражда
Из пепла воскресла, из мрака, из тлена,
Чтоб облаком смрадным накрыть города,
Земле угрожая и целой вселенной.
И вновь старику уподобился мир,
Который в предчувствии смертного часа
Не может о страхе забыть ни на миг
И с криком о помощи медленно чахнет.
Наш мир! Сотворенный из многих страстей,
Из зла и добра, как из плоти и духа,
Вновь корчится в противоборстве идей,
Как будто лишен он и зренья, и слуха.
То в море невежества блещет умом.
То в куче отбросов сверкает талантом.
То тускл он, как грязи слежавшийся ком,
А то ослепляет глаза бриллиантом.
Он проклят стократно и столько ж любим,
Наш мир многоликий, великий и странный.
Готов на колени я пасть перед ним,
Прижавшись щекою к груди океана.
Чтоб слушать огромное сердце его —
Биенье источников, волн и вулканов
И взрывы торпедных ракет и всего,
Что совесть во мне бередит, словно рану.
Сверкающий мир!.. Кто ты?.. Юный жених,
На свадьбе познавший бессмертную силу?
А, может, худое затеявший, псих,
Что смотрит с восторгом в свою же могилу?
Блуждающий мир!.. Кто ты?.. Слабая плоть,
Что ждет исцеленья от долгой болезни?
Иль тот самурай, что упал, словно плод,
Пронзив себя насквозь смертельным железом?
Ты песня о жизни иль стон о конце
Той двадцатилетней японки прекрасной,
Что с невыразимой тоской на лице
Навеки покинула юности праздник?
Обманчивый мир!.. Сколько светлых надежд
Швырнул ты, играючи, в темную бездну?..
И вcе же меня хоть намеком утешь,
Что жизнь моя грешная небесполезна.
Что я не напрасно карабкался ввысь
По горной тропинке, блуждающей в скалах.
Что по сердцу все мои песни пришлись
Юнцу желторотому и аксакалу.
И матери старой, что ждет у окна
Из долгого странствия сына седого.
Страшась, что его не узнает она,
Когда, наконец, он появится снова.
И женщинам всем, как единственной той,
Что, будто пророчество, необъяснима —
Вращается в сердце, как шар голубой,
Где горы и степи проносятся мимо.
Изменчивый мир!.. Все равно сохраню
Я верность тебе до последнего слова.
Которое не превратится в броню,
А будет открыто для ветра любого.
И в этом волшебном японском саду,
Где празднуют двадцатилетия праздник,
Хочу я открыто у всех на виду
Тебе пожелать оставаться прекрасным!
Пускай же хороший не станет плохим
И злой человек в добряка превратится.
Здоровый вовек пусть не будет больным
И жизнь его светлая долго продлится.
Скупой станет щедрым, а трус — смельчаком,
Дурак станет умным, хмельной протрезвеет.
Богач пусть поделится с нищим куском,
Голодный насытится, сытый прозреет.
Мир создан для всех, не тяните его
Вы в разные стороны, как одеяло,
Не то не достанется вам ничего,
Живите на свете, довольствуясь малым.
Пусть лучше еще станет каждый из вас,
И пусть этот мир заключит вас в объятья
И вихрем закружит вас юности вальс,
Как будто воздушное бальное платье.
Влюбляйтесь друг в друга! Приснитесь во сне!
Пусть день друг без друга вам кажется скучным.
Прошу, заслоните дорогу войне,
Что вновь надвигается грозною тучей.
Давайте навеки мы соединим
Народы, мелодии, разные страны,
Чтоб за руки крепко держались они,
Коварному не поддаваясь обману.
Как звезды на небе, деревья в лесу,
Как птиц перелетных крылатая стая,
Как бурные волны в Аварском Койсу,
Что к морю Каспийскому путь пролагают.
Всем место найдется под солнцем у нас:
Горе и равнине, пичуге и зверю…
Пока в небесах этот свет не погас,
Надеяться будем, любить мы и верить.
Пускай необъятен людской океан.
Но каждой волне места хватит в нем тоже,
Как сердцу любви, от которой я пьян,
И нет ничего мне любимой дороже.
Но длинные руки у злобы людской,
Она ненавидит счастливые лица.
Когда на земле воцарится покой,
От зависти жгучей ей ночью не спится.
И снова взрываются бомбы тогда,
Когда миром правят пустые обиды.
И ненависть губит опять города
И страны, что канули, как Атлантида.
Одни убивают друг друга, увы,
Другие себя убивают жестоко.
Планета, как рыба, гниет с головы,
И нет, к сожаленью, в ней больше пророка.
И в мире по-прежнему царствует страх,
Он крутит колесики явно и тайно.
Но длится безумная эта игра,
Где выиграть можно всегда лишь случайно.
Ведь мир этот болен и время больно.
Но где от болезни смертельной лекарство?
Неужто совсем не найдется оно,
И рухнут когда-нибудь все государства?
О молодость мира! Одна только ты
Способна еще исцелить землю эту,
Из вечной пустыни кровавой вражды
В пленительный сад превращая планету.
Чтоб солнце сияло, звенели дожди,
И реки весной разливались, как море.
Чтоб мать прижимая младенца к груди,
Не ведала больше ни страха, ни горя.
Чтоб в Индии не голодали вовек
И чтоб во Вьетнаме война прекратилась,
И чтоб милосердным вновь стал человек,
И чтоб снизошла на него Божья милость.
Чтоб снова вернулись весной журавли,
Чтоб вновь из руин Хиросима восстала
И чуткое сердце ранимой земли
От вечных трагедий земных не устало.
О молодость века! Что будет с тобой?
Родишь ли ты нового Гейне, Шекспира?
Скажи мне, где Лермонтов твой и Толстой?
Что завтра ты дашь обновленному миру?
Бетховена? Лорку или Пикассо?
А, может быть, Гитлера и Муссолини?
Чтоб вновь люди стали похожи на сор,
И жизнь их была даже горше полыни.
О молодость века! Вновь в колокол бей,
Чтоб не повторилась трагедия эта,
Чтоб в мертвом саду обгоревших камней
Опять расцветала вишневая ветка.
И к сроку на ней пусть созреют плоды,
Как будто пурпурные капельки крови.
Пусть сбудутся все молодые мечты,
И юность пусть не разминется с любовью.
И песня, которую я так искал,
Пускай зазвучит вдруг аккордом мажорным
В Японии также, как и среди скал
Цадинских, и в каждом селении горном.
О молодость всей необъятной земли!
Я верю в твою чистоту не напрасно,
Пускай улетают мои журавли,
Но ты оставайся такой же прекрасной!
1965