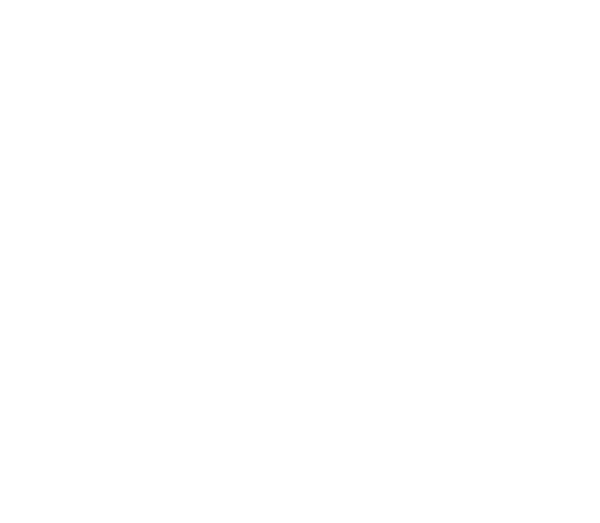СОНЕТЫ
Расул Гамзатов
Стихотворение – стихов творенье.
Такого ремесла на свете нет.
А что же есть? Есть горы в отдаленье,
Дожди и снегопады, тьма и свет.
На свете есть покой и есть движенье,
Есть смех и слезы – память давних лет,
Есть умиранье и возникновенье,
Есть истина и суета сует,
Есть жизни человеческой мгновенье
И остающийся надолго след.
И для кого весь мир, все ощущенья
Поэзия – тот истинный поэт.
Но как же пишутся стихотворенья?
На сей вопрос я сам ищу ответ.
Такого ремесла на свете нет.
А что же есть? Есть горы в отдаленье,
Дожди и снегопады, тьма и свет.
На свете есть покой и есть движенье,
Есть смех и слезы – память давних лет,
Есть умиранье и возникновенье,
Есть истина и суета сует,
Есть жизни человеческой мгновенье
И остающийся надолго след.
И для кого весь мир, все ощущенья
Поэзия – тот истинный поэт.
Но как же пишутся стихотворенья?
На сей вопрос я сам ищу ответ.
Мне кажется порою, что и строчки
Не о любви не напишу я впредь.
Я все свои стихи другие в клочья
Порву и брошу в печь, чтоб им сгореть.
Давно бежит с горы моя дорога,
Кто знает, сколько мне осталось дней.
Жизнь лишь одна, но было б жизней много,
На все хватило бы любви моей.
И где б я ни был, что б со мной ни сталось,
Пусть лишь любовь живет в моих стихах.
Не так уж много впереди осталось,
Чтобы писать о всяких пустяках.
Спеши наполнить, горец, закрома,
Уходит осень – впереди зима.
Не о любви не напишу я впредь.
Я все свои стихи другие в клочья
Порву и брошу в печь, чтоб им сгореть.
Давно бежит с горы моя дорога,
Кто знает, сколько мне осталось дней.
Жизнь лишь одна, но было б жизней много,
На все хватило бы любви моей.
И где б я ни был, что б со мной ни сталось,
Пусть лишь любовь живет в моих стихах.
Не так уж много впереди осталось,
Чтобы писать о всяких пустяках.
Спеши наполнить, горец, закрома,
Уходит осень – впереди зима.
Шептал я белой ночью в Ленинграде
В тот час, когда едины тьма и свет,
О, почему, скажите бога ради,
У нас в горах такого чуда нет?
Так я шептал, и вдруг передо мною
Восстало время давнее из мглы,
Когда мы молодые шли с тобою
И были ночи вешние белы.
И белый свет моих воспоминаний
Лег на весенний Ботлих и Хунзах.
В снегах вершины, склоны гор в садах,
Кругом бело, и мы с тобой в тумане,
Есть ночи белые и в Дагестане, –
Не потому ль они в моих глазах?
В тот час, когда едины тьма и свет,
О, почему, скажите бога ради,
У нас в горах такого чуда нет?
Так я шептал, и вдруг передо мною
Восстало время давнее из мглы,
Когда мы молодые шли с тобою
И были ночи вешние белы.
И белый свет моих воспоминаний
Лег на весенний Ботлих и Хунзах.
В снегах вершины, склоны гор в садах,
Кругом бело, и мы с тобой в тумане,
Есть ночи белые и в Дагестане, –
Не потому ль они в моих глазах?
Жизнь, что ни день, становится короче,
И кредитор наш, не смыкая глаз,
Неся в своем хурджуне дни и ночи,
Все, что должны мы, взыскивает с нас.
Пишу ль, любуюсь высью ли лазурной,
Всему ведет он, скряга, точный счет,
А жизнь – река, и над рекою бурной
Мосты он за моей спиною жжет.
А я прошу: заимодавец грозный,
Бери назад земные все дары,
Лишь час свиданья с милой, час мой поздний
Не обрывай внезапно до поры.
Но катится моя арба с горы.
Мой кредитор мольбы не слышит слезной.
И кредитор наш, не смыкая глаз,
Неся в своем хурджуне дни и ночи,
Все, что должны мы, взыскивает с нас.
Пишу ль, любуюсь высью ли лазурной,
Всему ведет он, скряга, точный счет,
А жизнь – река, и над рекою бурной
Мосты он за моей спиною жжет.
А я прошу: заимодавец грозный,
Бери назад земные все дары,
Лишь час свиданья с милой, час мой поздний
Не обрывай внезапно до поры.
Но катится моя арба с горы.
Мой кредитор мольбы не слышит слезной.
Мне все чего-то хочется давно.
Не этого и не того – другого,
Неведомого, странного, такого,
Что только мне найти и суждено.
Все надоело, что давно готово,
Что испокон веков заведено.
Другой хочу я музыки и слова,
Что не было досель изречено.
Но понял я: чтоб отыскать все это,
Не надо отправляться никуда.
Все чудеса под боком, а не где-то,
И стоит лишь не пожалеть труда.
И я тебя, хоть обошел полсвета,
Нашел не где-то, а в родном Цада.
Не этого и не того – другого,
Неведомого, странного, такого,
Что только мне найти и суждено.
Все надоело, что давно готово,
Что испокон веков заведено.
Другой хочу я музыки и слова,
Что не было досель изречено.
Но понял я: чтоб отыскать все это,
Не надо отправляться никуда.
Все чудеса под боком, а не где-то,
И стоит лишь не пожалеть труда.
И я тебя, хоть обошел полсвета,
Нашел не где-то, а в родном Цада.
Я признаюсь: мне кажется порою,
Как будто мы с тобой воскрешены
Из повестей старинных, где герои
Погибнуть от любви обречены.
Любовь своей затягивает сетью,
Она огнем того, кто любит, жжет.
Влюбленный лебедь долго не живет,
Живет лишь злобный ворон три столетья.
Стать старым лебедю не суждено,
Но он любя живет свой век недлинный,
И, заливаясь песней лебединой,
Он ворона счастливей все равно,
Хоть три столетья ворону дано
Жить в этом мире, тешась мертвечиной.
Как будто мы с тобой воскрешены
Из повестей старинных, где герои
Погибнуть от любви обречены.
Любовь своей затягивает сетью,
Она огнем того, кто любит, жжет.
Влюбленный лебедь долго не живет,
Живет лишь злобный ворон три столетья.
Стать старым лебедю не суждено,
Но он любя живет свой век недлинный,
И, заливаясь песней лебединой,
Он ворона счастливей все равно,
Хоть три столетья ворону дано
Жить в этом мире, тешась мертвечиной.
Была роса, и вдруг росы не стало,
И птицы улетели в дальний край.
Проходит все, и песня «Долалай»
Совсем не так, как прежде, зазвучала.
Как все недолговечно под луной,
Где все должно с годами измениться.
Сказали росы: «Был горячий зной!»
«Идут морозы», – объяснили птицы.
Но мне сказала песня «Долалай»:
«Не изменясь, звучу я, как звучала,
А ты сейчас меня не упрекай
За то, что изменился сам немало.
Попробуй ты, как прежде, заиграй
Или хотя б послушай, как бывало!»
И птицы улетели в дальний край.
Проходит все, и песня «Долалай»
Совсем не так, как прежде, зазвучала.
Как все недолговечно под луной,
Где все должно с годами измениться.
Сказали росы: «Был горячий зной!»
«Идут морозы», – объяснили птицы.
Но мне сказала песня «Долалай»:
«Не изменясь, звучу я, как звучала,
А ты сейчас меня не упрекай
За то, что изменился сам немало.
Попробуй ты, как прежде, заиграй
Или хотя б послушай, как бывало!»
Ты, время, как палач, в урочный час,
Не оглашая приговоров длинных,
Торжественно лишаешь жизни нас –
Всех равно: и виновных, и невинных.
Но был закон на свете с давних пор,
Чтоб спрашивал последнее желанье
У тех, над кем свершилось наказанье,
Палач, пред тем как занести топор.
Чего ж возжажду я всего сильней?
Я жизнь прожил, чего ж хотеть мне боле?
Стремление к любви – вот что моей
И первой было, и последней волей.
И пусть в свой час подводит жизнь итог,
Я все сказал и сделал все, что мог.
Не оглашая приговоров длинных,
Торжественно лишаешь жизни нас –
Всех равно: и виновных, и невинных.
Но был закон на свете с давних пор,
Чтоб спрашивал последнее желанье
У тех, над кем свершилось наказанье,
Палач, пред тем как занести топор.
Чего ж возжажду я всего сильней?
Я жизнь прожил, чего ж хотеть мне боле?
Стремление к любви – вот что моей
И первой было, и последней волей.
И пусть в свой час подводит жизнь итог,
Я все сказал и сделал все, что мог.
Я слышал, что стихами Авиценна
Писал рецепты для больных людей,
Я слышал, что излечивал мгновенно
Больных своею музыкой Орфей.
А я не врач, не сказочный целитель,
Но все же людям дать могу совет:
Друг друга по возможности любите,
Любовь – вот снадобье от наших бед.
И хоть не все, я знаю, в нашей воле,
Не всякий любящий неуязвим,
Но чем сильнее любит он, тем боле
Он хочет быть здоровым и живым.
Мне кажется: и я живу, доколе
Тебя люблю я и тобой любим.
Писал рецепты для больных людей,
Я слышал, что излечивал мгновенно
Больных своею музыкой Орфей.
А я не врач, не сказочный целитель,
Но все же людям дать могу совет:
Друг друга по возможности любите,
Любовь – вот снадобье от наших бед.
И хоть не все, я знаю, в нашей воле,
Не всякий любящий неуязвим,
Но чем сильнее любит он, тем боле
Он хочет быть здоровым и живым.
Мне кажется: и я живу, доколе
Тебя люблю я и тобой любим.
В музейных залах – в Лувре и в Версале,
Где я ходил, бывало, много дней,
Меня мадонны строгие смущали
С тобою странной схожестью своей.
И думал я: как чье-то вдохновенье,
Чужое представленье красоты
Могло предугадать твои черты
За столько лет до твоего рожденья?
Вдали от края нашего встречать
Красавиц доводилось мне немало,
Но в них твою угадывал я стать.
И я того не мог понять, бывало,
Как эти дочери чужой земли
Твою осанку перенять могли?
Где я ходил, бывало, много дней,
Меня мадонны строгие смущали
С тобою странной схожестью своей.
И думал я: как чье-то вдохновенье,
Чужое представленье красоты
Могло предугадать твои черты
За столько лет до твоего рожденья?
Вдали от края нашего встречать
Красавиц доводилось мне немало,
Но в них твою угадывал я стать.
И я того не мог понять, бывало,
Как эти дочери чужой земли
Твою осанку перенять могли?
Бросает свет светильник мой чадящий.
Все в доме спит, лишь я один не сплю, –
Я наклонился над тобою, спящей,
Чтоб вновь промолвить: «Я тебя люблю».
И горше были дни мои, и слаще,
Но, старше став, на том себя ловлю,
Что повторяю я теперь все чаще
Одно и то же: «Я тебя люблю!»
И я, порой неправдою грешащий,
Всего лишь об одном тебя молю:
Не думай, что настолько я пропащий,
Чтоб лгать признаньем: «Я тебя люблю!»
И мой единственный, мой настоящий
Стих только этот: «Я тебя люблю».
Все в доме спит, лишь я один не сплю, –
Я наклонился над тобою, спящей,
Чтоб вновь промолвить: «Я тебя люблю».
И горше были дни мои, и слаще,
Но, старше став, на том себя ловлю,
Что повторяю я теперь все чаще
Одно и то же: «Я тебя люблю!»
И я, порой неправдою грешащий,
Всего лишь об одном тебя молю:
Не думай, что настолько я пропащий,
Чтоб лгать признаньем: «Я тебя люблю!»
И мой единственный, мой настоящий
Стих только этот: «Я тебя люблю».
Когда б за все, что совершили мы,
За горе, что любимым причинили,
Судом обычным каждого б судили,
Быть может, избежали б мы тюрьмы.
Но кодекс свой у каждого в груди,
И снисхождения не смею ждать я.
И ты меня, любимая, суди
По собственным законам и понятьям.
Суди меня по кодексу любви,
Признай во всех деяньях виноватым,
Чтоб доказать мою вину, зови
Минувшие рассветы и закаты.
Все, чем мы были счастливы когда-то
И что еще живет у нас в крови.
За горе, что любимым причинили,
Судом обычным каждого б судили,
Быть может, избежали б мы тюрьмы.
Но кодекс свой у каждого в груди,
И снисхождения не смею ждать я.
И ты меня, любимая, суди
По собственным законам и понятьям.
Суди меня по кодексу любви,
Признай во всех деяньях виноватым,
Чтоб доказать мою вину, зови
Минувшие рассветы и закаты.
Все, чем мы были счастливы когда-то
И что еще живет у нас в крови.
Родная, почему, скажи на милость,
Когда в краю чужом мне быть пришлось,
Вдруг сразу непогода разразилась,
А появилась ты – все унялось?
И в отчий край приехать мне случилось.
Был хмурый день, и я ходил, как гость.
Ты появилась – все преобразилось:
Запели птицы, солнце поднялось.
Пришел я к морю – и вода взъярилась,
Гремели волны, не скрывали злость,
А ты пришла – и море повинилось,
У ног твоих покорно улеглось.
И предо мною истина открылась:
Бунтует мир, когда с тобой мы врозь.
Когда в краю чужом мне быть пришлось,
Вдруг сразу непогода разразилась,
А появилась ты – все унялось?
И в отчий край приехать мне случилось.
Был хмурый день, и я ходил, как гость.
Ты появилась – все преобразилось:
Запели птицы, солнце поднялось.
Пришел я к морю – и вода взъярилась,
Гремели волны, не скрывали злость,
А ты пришла – и море повинилось,
У ног твоих покорно улеглось.
И предо мною истина открылась:
Бунтует мир, когда с тобой мы врозь.
Я этой ночью неспокойно спал,
Мне снилось, будто за тобою следом
Бежал я, прыгал по уступам скал
В краю, что нам с тобою был неведом.
Потом вдруг отделялась часть скалы,
И уплывала ты в морские дали.
Я следом плыл, но тяжкие валы
Стеной вставали, путь мне преграждали.
И вновь я был в горах, и с высоты,
Гремя, лавина снежная катилась.
И вдруг земля меняла гнев на милость –
Светилось небо, и цвели цветы.
Я пробудился в этот миг, и ты
Вошла ко мне или опять приснилась.
Мне снилось, будто за тобою следом
Бежал я, прыгал по уступам скал
В краю, что нам с тобою был неведом.
Потом вдруг отделялась часть скалы,
И уплывала ты в морские дали.
Я следом плыл, но тяжкие валы
Стеной вставали, путь мне преграждали.
И вновь я был в горах, и с высоты,
Гремя, лавина снежная катилась.
И вдруг земля меняла гнев на милость –
Светилось небо, и цвели цветы.
Я пробудился в этот миг, и ты
Вошла ко мне или опять приснилась.
Через плечо несу я два хурджина,
Мои хурджины тяжки – погляди.
Хурджины стерли мне не только спину,
Но грудь и сердце у меня в груди.
Любовью истинною, беззаветной
Наполнен первый, больший мой мешок.
Не жалко мне моей казны несметной,
Все у твоих я рассыпаю ног.
Но полон и другой мешок до края,
Я и его порой опорожняю,
Непримиримость, злоба там кишат.
Их пламенем я сам себя караю
В нередкие часы, когда бываю
Я пред тобой, родная, виноват.
Мои хурджины тяжки – погляди.
Хурджины стерли мне не только спину,
Но грудь и сердце у меня в груди.
Любовью истинною, беззаветной
Наполнен первый, больший мой мешок.
Не жалко мне моей казны несметной,
Все у твоих я рассыпаю ног.
Но полон и другой мешок до края,
Я и его порой опорожняю,
Непримиримость, злоба там кишат.
Их пламенем я сам себя караю
В нередкие часы, когда бываю
Я пред тобой, родная, виноват.
День твоего рождения опять
Родил в моей душе недоуменье:
Ужель земля могла существовать
До твоего на свете появленья?
О чьей красе печалясь, Пушкин мог
Писать стихи про чудное мгновенье?
С чьим именем в кровавое сраженье
Летел Шамиль, свой обнажив клинок?
И я не отступлюсь от убежденья,
Что был безлюден мир со дня творенья,
Что до тебя земля была пуста,
И потому я летоисчисленье
Веду с минуты твоего рожденья.
А не со дня рождения Христа.
Родил в моей душе недоуменье:
Ужель земля могла существовать
До твоего на свете появленья?
О чьей красе печалясь, Пушкин мог
Писать стихи про чудное мгновенье?
С чьим именем в кровавое сраженье
Летел Шамиль, свой обнажив клинок?
И я не отступлюсь от убежденья,
Что был безлюден мир со дня творенья,
Что до тебя земля была пуста,
И потому я летоисчисленье
Веду с минуты твоего рожденья.
А не со дня рождения Христа.
Ты видела, как пилят дерева?
Я в жизни сам стволов спилил немало,
Потом стволы я резал на дрова,
И, словно слезы, их смола стекала.
Я молод был, был на работу зол,
Пилил дрова, бывало, целый день я,
Пилою укорачивая ствол,
Поленья обрекая на сожженье.
Идут года и, как пила стволы,
Наш урезают век без сожаленья.
Года сгорают сами, как поленья,
Неслышно плача каплями смолы.
Но для любви не страшно ни горенье,
Ни зубья той безжалостной пилы.
Я в жизни сам стволов спилил немало,
Потом стволы я резал на дрова,
И, словно слезы, их смола стекала.
Я молод был, был на работу зол,
Пилил дрова, бывало, целый день я,
Пилою укорачивая ствол,
Поленья обрекая на сожженье.
Идут года и, как пила стволы,
Наш урезают век без сожаленья.
Года сгорают сами, как поленья,
Неслышно плача каплями смолы.
Но для любви не страшно ни горенье,
Ни зубья той безжалостной пилы.
Ларец опущен с неба на цепях,
Ларец сокровища любви скрывает.
Бери добро, оно не иссякает,
Спустил его на землю сам аллах.
Ларец волшебный этот тем хорош,
Что из него, как воду из колодца,
Чем больше черпаешь и отдаешь,
Тем больше там сокровищ остается.
Мне жаль бывает каждого скупца,
Бедняга, что несчастней всех несчастных,
Не видит сокровенного ларца
Или не знает свойств его прекрасных.
А я тебе, как сказочный мудрец,
Все отдаю, и полон мой ларец.
Ларец сокровища любви скрывает.
Бери добро, оно не иссякает,
Спустил его на землю сам аллах.
Ларец волшебный этот тем хорош,
Что из него, как воду из колодца,
Чем больше черпаешь и отдаешь,
Тем больше там сокровищ остается.
Мне жаль бывает каждого скупца,
Бедняга, что несчастней всех несчастных,
Не видит сокровенного ларца
Или не знает свойств его прекрасных.
А я тебе, как сказочный мудрец,
Все отдаю, и полон мой ларец.
В моих воспоминаньях о весне,
В сознании, что осень наступила,
В моей заботе об идущем дне
Твое лицо все лица заслонило.
Об этом бы не надо говорить,
Но ты на грудь мне голову склонила,
И понял я, что не могу таить,
Ты все передо мною заслонила!
Нам многое увидеть довелось,
И радость, и печаль – все в жизни было,
Но светит серебро твоих волос,
Как никогда доселе не светило.
И все равно– мы вместе или врозь,
Ты все передо мною заслонила.
В сознании, что осень наступила,
В моей заботе об идущем дне
Твое лицо все лица заслонило.
Об этом бы не надо говорить,
Но ты на грудь мне голову склонила,
И понял я, что не могу таить,
Ты все передо мною заслонила!
Нам многое увидеть довелось,
И радость, и печаль – все в жизни было,
Но светит серебро твоих волос,
Как никогда доселе не светило.
И все равно– мы вместе или врозь,
Ты все передо мною заслонила.
Передают известья, погоди,
Грохочут где-то в небе бомбовозы,
И кто-то гибнет, льются чьи-то слезы,
Мне боязно, прижмись к моей груди.
Прислушайся, родная, погляди,
Опять к Луне торопится ракета,
И снова атом расщепляют где-то,
Мне боязно, прижмись к моей груди.
И что бы нас ни ждало впереди,
Давай возьмем с тобою два билета
На Марс ли, на Луну, на край ли света,
Ну а пока поближе подойди,
Здесь холодно, и ты легко одета,
Я так боюсь, прижмись, к моей груди!
Грохочут где-то в небе бомбовозы,
И кто-то гибнет, льются чьи-то слезы,
Мне боязно, прижмись к моей груди.
Прислушайся, родная, погляди,
Опять к Луне торопится ракета,
И снова атом расщепляют где-то,
Мне боязно, прижмись к моей груди.
И что бы нас ни ждало впереди,
Давай возьмем с тобою два билета
На Марс ли, на Луну, на край ли света,
Ну а пока поближе подойди,
Здесь холодно, и ты легко одета,
Я так боюсь, прижмись, к моей груди!
Наш пароход плывет из дальних стран,
Он нас несет и на волнах качает,
Он, как стекло алмазом, разрезает
Великий, или Тихий, океан.
На стороне одной, где солнце светит,
Вода ведет веселую игру,
И волны то резвятся, словно дети,
То пляшут, словно гости на пиру.
И по другую сторону, в тени,
Рокочут волны, будто кто-то стонет,
Наверное, завидуют они
Товарищам своим потусторонним.
Плывет корабль, и каждый божий день
Мой разделяет мир на свет в тень.
Он нас несет и на волнах качает,
Он, как стекло алмазом, разрезает
Великий, или Тихий, океан.
На стороне одной, где солнце светит,
Вода ведет веселую игру,
И волны то резвятся, словно дети,
То пляшут, словно гости на пиру.
И по другую сторону, в тени,
Рокочут волны, будто кто-то стонет,
Наверное, завидуют они
Товарищам своим потусторонним.
Плывет корабль, и каждый божий день
Мой разделяет мир на свет в тень.
Чтоб с ним вступить сейчас же в смертный бой,
Где твой обидчик давний иль недавний?
Но то беда, что я – защитник твой,
И я же твой обидчик самый главный.
Во мне два человека много лет
Живут, соседства своего стыдятся,
И, чтобы оградить тебя от бед,
Я должен сам с собою насмерть драться.
А ты платок свой с плеч сорви скорей
И, по обычью наших матерей,
Брось в ноги нам, не говоря ни слова,
Чтоб мы смирились во вражде своей,
Иль собственной своей рукой убей
Ты одного из нас двоих – любого.
Где твой обидчик давний иль недавний?
Но то беда, что я – защитник твой,
И я же твой обидчик самый главный.
Во мне два человека много лет
Живут, соседства своего стыдятся,
И, чтобы оградить тебя от бед,
Я должен сам с собою насмерть драться.
А ты платок свой с плеч сорви скорей
И, по обычью наших матерей,
Брось в ноги нам, не говоря ни слова,
Чтоб мы смирились во вражде своей,
Иль собственной своей рукой убей
Ты одного из нас двоих – любого.
Добро и зло на свете все творят,
Но правит мной понятие иное:
Я слышу речь твою, твой вижу взгляд,
И ничего не стоит остальное.
Прекрасны в мире звезды и рассвет,
Заря и в небе солнце золотое –
Все то, что на тебя бросает свет,
Все остальное ничего не стоит.
Озарены твоею красотою
Родной аул и край любимый твой,
Гора, пугающая высотою,
Любой цветок и камешек любой.
Мне свято все, что связано с тобой, –
Все остальное ничего не стоит.
Но правит мной понятие иное:
Я слышу речь твою, твой вижу взгляд,
И ничего не стоит остальное.
Прекрасны в мире звезды и рассвет,
Заря и в небе солнце золотое –
Все то, что на тебя бросает свет,
Все остальное ничего не стоит.
Озарены твоею красотою
Родной аул и край любимый твой,
Гора, пугающая высотою,
Любой цветок и камешек любой.
Мне свято все, что связано с тобой, –
Все остальное ничего не стоит.
Я звезды засвечу тебе в угоду,
Уйму холодный ветер и пургу,
Очаг нагрею к твоему приходу,
От холода тебя оберегу.
Мы сядем, мы придвинемся друг к другу,
Остерегаясь всяких громких слов,
Ярмо твоих печалей и недугов
Себе на шею я надеть готов.
Я тихо встану над твоей постелью,
Чтоб не мешать тебе, прикрою свет,
Твоею стану песней колыбельной,
Заклятьем ото всех невзгод и бед.
И ты поверишь: на земле метельной
Ни зла людского, ни печали нет.
Уйму холодный ветер и пургу,
Очаг нагрею к твоему приходу,
От холода тебя оберегу.
Мы сядем, мы придвинемся друг к другу,
Остерегаясь всяких громких слов,
Ярмо твоих печалей и недугов
Себе на шею я надеть готов.
Я тихо встану над твоей постелью,
Чтоб не мешать тебе, прикрою свет,
Твоею стану песней колыбельной,
Заклятьем ото всех невзгод и бед.
И ты поверишь: на земле метельной
Ни зла людского, ни печали нет.
Трем нашим дочкам ты головки гладишь,
Ты шесть тугих косичек заплетешь,
И в зеркало посмотришь, и взгрустнешь,
Что у тебя самой поблекли пряди.
Чем руки дочек, нет белее рук,
Ты руки их своей ладонью тронешь
И с огорчением заметишь вдруг,
Что огрубели у тебя ладони.
Чем глазки дочек, нет яснее глаз.
Они еще согреют нашу старость,
И ты напрасно сетуешь сейчас,
Что у тебя глаза поблекли малость.
Все то хорошее, что было в нас,
Досталось нашим дочкам и осталось.
Ты шесть тугих косичек заплетешь,
И в зеркало посмотришь, и взгрустнешь,
Что у тебя самой поблекли пряди.
Чем руки дочек, нет белее рук,
Ты руки их своей ладонью тронешь
И с огорчением заметишь вдруг,
Что огрубели у тебя ладони.
Чем глазки дочек, нет яснее глаз.
Они еще согреют нашу старость,
И ты напрасно сетуешь сейчас,
Что у тебя глаза поблекли малость.
Все то хорошее, что было в нас,
Досталось нашим дочкам и осталось.
Хочу любовь провозгласить страною,
Чтоб все там жили в мире и тепле,
Чтоб начинался гимн ее строкою:
«Любовь всего превыше на земле».
Чтоб гимн прекрасный люди пели стоя
И чтоб взлетала песня к небу, ввысь,
Чтоб на гербе страны Любви слились
В пожатии одна рука с другою.
Во флаг, который учредит страна,
Хочу, чтоб все цвета земли входили,
Чтоб радость в них была заключена,
Разлука, встреча, сила и бессилье,
Хочу, чтоб все людские племена
В стране Любви убежище просили.
Чтоб все там жили в мире и тепле,
Чтоб начинался гимн ее строкою:
«Любовь всего превыше на земле».
Чтоб гимн прекрасный люди пели стоя
И чтоб взлетала песня к небу, ввысь,
Чтоб на гербе страны Любви слились
В пожатии одна рука с другою.
Во флаг, который учредит страна,
Хочу, чтоб все цвета земли входили,
Чтоб радость в них была заключена,
Разлука, встреча, сила и бессилье,
Хочу, чтоб все людские племена
В стране Любви убежище просили.
Бывает в жизни все наоборот.
Я в этом убеждался не однажды:
Дожди идут, хоть поле солнца ждет,
Пылает зной, а поле влаги жаждет.
Приходит приходящее не в срок.
Нежданными бывают зло и милость.
Я и тебя не ждал и ждать не мог
В тот день, когда ты в жизнь мою явилась.
И сразу по-другому все пошло,
Стал по-иному думать, жить и петь я.
Что в жизни все случиться так могло,
Не верится мне два десятилетья.
Порой судьба над нами шутит зло.
А как же я? Мне просто повезло.
Я в этом убеждался не однажды:
Дожди идут, хоть поле солнца ждет,
Пылает зной, а поле влаги жаждет.
Приходит приходящее не в срок.
Нежданными бывают зло и милость.
Я и тебя не ждал и ждать не мог
В тот день, когда ты в жизнь мою явилась.
И сразу по-другому все пошло,
Стал по-иному думать, жить и петь я.
Что в жизни все случиться так могло,
Не верится мне два десятилетья.
Порой судьба над нами шутит зло.
А как же я? Мне просто повезло.
Я видел: реки, выйдя на равнины,
В два разных русла растекались вдруг,
И птицы, мне казалось, без причины
Высоко в небе разлетались вдруг.
А у меня есть друг и есть подруга,
Они, что друг для друга родились,
Вдруг, как река, в два русла растеклись,
Как птицы, разлетелись друг от друга.
Спросил я, встретив друга: «Что с тобой?»
И он мне так ответил: «Из сраженья
Как будто бы я выбрался живой!»
И я повергнут был в недоуменье:
Любовь людская – если это бой,
То бой, откуда нету возвращенья.
В два разных русла растекались вдруг,
И птицы, мне казалось, без причины
Высоко в небе разлетались вдруг.
А у меня есть друг и есть подруга,
Они, что друг для друга родились,
Вдруг, как река, в два русла растеклись,
Как птицы, разлетелись друг от друга.
Спросил я, встретив друга: «Что с тобой?»
И он мне так ответил: «Из сраженья
Как будто бы я выбрался живой!»
И я повергнут был в недоуменье:
Любовь людская – если это бой,
То бой, откуда нету возвращенья.
Я замышлял уехать в дальний край.
Хотел купить билет на поезд дальний,
Чтоб знала ты: хоть жизнь со мной – не рай,
Но без меня она еще печальней.
Я замышлял уехать впопыхах,
В краю далеком затеряться где-то,
Чтоб со слезами горя на глазах
Ты шла меня искать по белу свету.
Я бегство в край далекий замышлял,
Чтоб поняла ты, сколь тяжка утрата,
Но вдруг в какой-то миг соображал,
Что дома я, а ты ушла куда-то.
И сразу все на свете забывал,
Тебя искать бежал я виновато.
Хотел купить билет на поезд дальний,
Чтоб знала ты: хоть жизнь со мной – не рай,
Но без меня она еще печальней.
Я замышлял уехать впопыхах,
В краю далеком затеряться где-то,
Чтоб со слезами горя на глазах
Ты шла меня искать по белу свету.
Я бегство в край далекий замышлял,
Чтоб поняла ты, сколь тяжка утрата,
Но вдруг в какой-то миг соображал,
Что дома я, а ты ушла куда-то.
И сразу все на свете забывал,
Тебя искать бежал я виновато.
Серебряные россыпи монет
Мерцают в южном небе до рассвета,
Но за горой рождается рассвет,
Сгребает мелочь, чтобы спрятать где-то.
Встает заря из мглы, и птичий гам
О приближенье дня оповещает.
День настает; что он готовит нам,
Ни я, ни ты, никто другой не знает.
Благ для себя просить мне недосуг,
Заботиться лишь о тебе я в силе,
И я молю, чтоб горе и недуг
Беды и зла тебе не причинили,
И если все ж сгустится мгла вокруг,
Чтоб мы всегда с тобою вместе были.
Мерцают в южном небе до рассвета,
Но за горой рождается рассвет,
Сгребает мелочь, чтобы спрятать где-то.
Встает заря из мглы, и птичий гам
О приближенье дня оповещает.
День настает; что он готовит нам,
Ни я, ни ты, никто другой не знает.
Благ для себя просить мне недосуг,
Заботиться лишь о тебе я в силе,
И я молю, чтоб горе и недуг
Беды и зла тебе не причинили,
И если все ж сгустится мгла вокруг,
Чтоб мы всегда с тобою вместе были.
В твоем плену я двадцать с лишним лет,
И кажется, ты мне связала руки.
Но вот порою друг или сосед
Берет меня из плена на поруки.
Но на свободе грустен я и слаб,
Вокруг бесцветно все, все лица серы.
И, как свободу получивший раб,
Я жить не в силах без своей галеры.
Так, с привязи сорвавшись, волкодав
Лишь поначалу весело резвится,
Но вскоре, все заборы обежав,
Спешит к привычной цепи возвратиться.
И я, свободе горестной взамен,
Предпочитаю свой извечный плен.
И кажется, ты мне связала руки.
Но вот порою друг или сосед
Берет меня из плена на поруки.
Но на свободе грустен я и слаб,
Вокруг бесцветно все, все лица серы.
И, как свободу получивший раб,
Я жить не в силах без своей галеры.
Так, с привязи сорвавшись, волкодав
Лишь поначалу весело резвится,
Но вскоре, все заборы обежав,
Спешит к привычной цепи возвратиться.
И я, свободе горестной взамен,
Предпочитаю свой извечный плен.
Обычай старый есть в горах у нас:
Коль провожают замуж дочь родную,
Чтоб род ее навеки не угас,
Вручают ей лучину смоляную.
Горит очаг под крышею моей,
Горит, твоей лучиною зажженный,
Которая дороже и ценней
Иных богатств, тобою принесенных.
Горит очаг все жарче и светлей,
Блистают в наших волосах седины,
И, может быть, уже пути не длинны
До тех счастливых и печальных дней,
Когда и мы проводим дочерей,
Им в руки дав зажженные лучины.
Коль провожают замуж дочь родную,
Чтоб род ее навеки не угас,
Вручают ей лучину смоляную.
Горит очаг под крышею моей,
Горит, твоей лучиною зажженный,
Которая дороже и ценней
Иных богатств, тобою принесенных.
Горит очаг все жарче и светлей,
Блистают в наших волосах седины,
И, может быть, уже пути не длинны
До тех счастливых и печальных дней,
Когда и мы проводим дочерей,
Им в руки дав зажженные лучины.
Длинней он будет или же короче,
Но все-таки людской не вечен путь.
Взаймы даются людям дни и ночи.
Мы все, что нам дано, должны вернуть.
Мы что-то отдаем без сожаленья,
Другое надо с кровью отрывать.
Порой бывает, занавес на сцене,
Едва поднявшись, падает опять.
Я вижу сам, что молодость осталась
За далью гор и за чертой дорог.
И, собираясь подвести итог,
Уже стоит придирчивая старость.
О милая, когда б я только мог,
За счет своих твои бы дни сберег.
Но все-таки людской не вечен путь.
Взаймы даются людям дни и ночи.
Мы все, что нам дано, должны вернуть.
Мы что-то отдаем без сожаленья,
Другое надо с кровью отрывать.
Порой бывает, занавес на сцене,
Едва поднявшись, падает опять.
Я вижу сам, что молодость осталась
За далью гор и за чертой дорог.
И, собираясь подвести итог,
Уже стоит придирчивая старость.
О милая, когда б я только мог,
За счет своих твои бы дни сберег.
Дождь, оставляя капли на окне,
Стучит, стучит в окно порой ночною.
Что он шумит? И так не спится мне,
Тебя, моей любимой, нет со мною.
Но быстролетны приступы грозы,
И дождь, поняв, что мало в шуме толку,
Вдруг перестал, оставив след недолгий –
На стеклах три некрупные слезы.
Все стихло, даже капель не осталось.
Я вдаль смотрю, где все темным-темно,
Я вспоминаю, что и мне случалось
Когда-то слезы лить давным-давно.
Случалось мне стучать в твое окно,
Которое на стук не открывалось.
Стучит, стучит в окно порой ночною.
Что он шумит? И так не спится мне,
Тебя, моей любимой, нет со мною.
Но быстролетны приступы грозы,
И дождь, поняв, что мало в шуме толку,
Вдруг перестал, оставив след недолгий –
На стеклах три некрупные слезы.
Все стихло, даже капель не осталось.
Я вдаль смотрю, где все темным-темно,
Я вспоминаю, что и мне случалось
Когда-то слезы лить давным-давно.
Случалось мне стучать в твое окно,
Которое на стук не открывалось.
Ты чешешь косу, огорчаясь тем,
Что в ней седые волосы нередки.
Зачем их прятать, стряхивать зачем
Осенний первый снег с зеленой ветки?
Он неизбежен, осени приход,
Старанье задержать ее – напрасно,
Пусть падает листва, пусть снег идет –
И осень красотой своей прекрасна.
Быть юным вновь мне тоже не дано.
Пусть, обеляя нас, подходит старость.
Пусть злобствуют метели, все равно
В груди у нас тепло еще осталось.
Нас годы украшают, и давно
Ты мне такой красивой не казалась.
Что в ней седые волосы нередки.
Зачем их прятать, стряхивать зачем
Осенний первый снег с зеленой ветки?
Он неизбежен, осени приход,
Старанье задержать ее – напрасно,
Пусть падает листва, пусть снег идет –
И осень красотой своей прекрасна.
Быть юным вновь мне тоже не дано.
Пусть, обеляя нас, подходит старость.
Пусть злобствуют метели, все равно
В груди у нас тепло еще осталось.
Нас годы украшают, и давно
Ты мне такой красивой не казалась.
Ты среди умных женщин всех умнее,
Среди красавиц – чудо красоты.
Погибли те, кто был меня сильнее,
И я б давно пропал, когда б не ты.
Махмуд не пал бы много лет назад,
Когда Марьям сдержала б слово честно,
Не дали бы Эльдарилаву яд,
Когда б верна была его невеста.
Лишь женщина в любые времена
Спасала и губила нас, я знаю,
Вот и меня спасала ты одна,
Когда я столько раз стоял у края.
Неверному, ты мне была верна,
Свою верностью меня спасая.
Среди красавиц – чудо красоты.
Погибли те, кто был меня сильнее,
И я б давно пропал, когда б не ты.
Махмуд не пал бы много лет назад,
Когда Марьям сдержала б слово честно,
Не дали бы Эльдарилаву яд,
Когда б верна была его невеста.
Лишь женщина в любые времена
Спасала и губила нас, я знаю,
Вот и меня спасала ты одна,
Когда я столько раз стоял у края.
Неверному, ты мне была верна,
Свою верностью меня спасая.
Осталась нам едва ли треть пути.
С тобою век мы прожили, и ныне
Мечтаю жизнь окончить и уйти
Я до того, как ты меня покинешь.
А ты последний час мой освети,
Забудь свои обиды, умоляю,
Прошу: еще за то меня прости,
Что малое наследство оставляю.
Хоть все и говорят, что я богат,
В действительности я богат не очень.
Награды? Что тебе от тех наград?
Тебе я оставляю наших дочек
Да песни, о которых говорят,
Что сделал их не я, а переводчик.
С тобою век мы прожили, и ныне
Мечтаю жизнь окончить и уйти
Я до того, как ты меня покинешь.
А ты последний час мой освети,
Забудь свои обиды, умоляю,
Прошу: еще за то меня прости,
Что малое наследство оставляю.
Хоть все и говорят, что я богат,
В действительности я богат не очень.
Награды? Что тебе от тех наград?
Тебе я оставляю наших дочек
Да песни, о которых говорят,
Что сделал их не я, а переводчик.
Над головами нашими весною
Шумело дерево на склоне гор,
И мы в тот час не думали с тобою,
Что дровосек уже вострил топор.
Любовь людей на дерево похожа,
Она цветет, на свете все презрев,
Ужели и она бессильна тоже,
Как перед топором стволы дерев?
Мы дерево свое растили долго.
Тряслись всегда над детищем своим,
Так неужели злу и кривотолкам
Его мы на погибель отдадим?
Ужель обиды наши и сомненья
Позволят превратить его в поленья?
Шумело дерево на склоне гор,
И мы в тот час не думали с тобою,
Что дровосек уже вострил топор.
Любовь людей на дерево похожа,
Она цветет, на свете все презрев,
Ужели и она бессильна тоже,
Как перед топором стволы дерев?
Мы дерево свое растили долго.
Тряслись всегда над детищем своим,
Так неужели злу и кривотолкам
Его мы на погибель отдадим?
Ужель обиды наши и сомненья
Позволят превратить его в поленья?
Когда ты вовсе не существовала б,
Я, кажется, не прожил бы и дня,
Кто б стал причиной бед моих и жалоб,
Кто б стал истоком счастья для меня?
К кому б летел я из краев далеких,
О ком печалился, о ком грустил,
К кому другому обратил бы строки,
Которые тебе я посвятил?
Ужель цвели б сады и птицы пели,
Когда бы я твоих не видел глаз,
Ужели б звезды в небесах горели
И солнца свет над миром не погас?
Коль не было б тебя, о неужели
Я быть бы мог счастливым, как сейчас?
Я, кажется, не прожил бы и дня,
Кто б стал причиной бед моих и жалоб,
Кто б стал истоком счастья для меня?
К кому б летел я из краев далеких,
О ком печалился, о ком грустил,
К кому другому обратил бы строки,
Которые тебе я посвятил?
Ужель цвели б сады и птицы пели,
Когда бы я твоих не видел глаз,
Ужели б звезды в небесах горели
И солнца свет над миром не погас?
Коль не было б тебя, о неужели
Я быть бы мог счастливым, как сейчас?
Красавицу певец Эльдарилав
Посватал из селения чужого,
Но выдали невесту за другого
Ее отец и мать, любовь поправ.
И на веселой свадьбе яд в вино
Подсыпали и дали стихотворцу.
И, хоть обман он понял, все равно
Рог осушил, как подобает горцу.
Он поступил, как повелел адат, –
То исполнять, что старшие велят.
И, рухнув возле самого порога,
Он так и не поднялся, говорят.
Мне кажется: я тоже пью из рога,
Хотя и знаю – там подмешан яд.
Посватал из селения чужого,
Но выдали невесту за другого
Ее отец и мать, любовь поправ.
И на веселой свадьбе яд в вино
Подсыпали и дали стихотворцу.
И, хоть обман он понял, все равно
Рог осушил, как подобает горцу.
Он поступил, как повелел адат, –
То исполнять, что старшие велят.
И, рухнув возле самого порога,
Он так и не поднялся, говорят.
Мне кажется: я тоже пью из рога,
Хотя и знаю – там подмешан яд.
Был мой родитель горским стихотворцем.
За долгий век он написал в стихах
О всех соседях, всех хунзахских горцах,
Об их деяньях светлых и грехах.
И вот пришли однажды старики
И так сказали: «Мы понять не можем,
Как вышло, что о той, кто всех дороже,
Не сочинил ты ни одной строки?»
Но было у отца свое сужденье:
Кто, мол, жену возносит – тот глупец,
А кто жену поносит – тот подлец.
...А я всю жизнь писал стихотворенья
О собственной жене, и наконец
Я понял лишь теперь, что прав отец.
За долгий век он написал в стихах
О всех соседях, всех хунзахских горцах,
Об их деяньях светлых и грехах.
И вот пришли однажды старики
И так сказали: «Мы понять не можем,
Как вышло, что о той, кто всех дороже,
Не сочинил ты ни одной строки?»
Но было у отца свое сужденье:
Кто, мол, жену возносит – тот глупец,
А кто жену поносит – тот подлец.
...А я всю жизнь писал стихотворенья
О собственной жене, и наконец
Я понял лишь теперь, что прав отец.
Любовь, быть может, – это институт,
Где учится не всякий, кто захочет,
Где Радость и Печаль все дни и ночи
Занятья со студентами ведут.
И я мудреных книг листал страницы,
Но неизбежно убеждался в том,
Что не всему способны мы учиться
На неудачном опыте чужом.
Учился я, но знанья были зыбки.
Я ушибался, попадал впросак.
Я допускал грубейшие ошибки,
Не то твердил и поступал не так.
Я мало преуспел, хоть был, по сути,
Студентом вечным в этом институте.
Где учится не всякий, кто захочет,
Где Радость и Печаль все дни и ночи
Занятья со студентами ведут.
И я мудреных книг листал страницы,
Но неизбежно убеждался в том,
Что не всему способны мы учиться
На неудачном опыте чужом.
Учился я, но знанья были зыбки.
Я ушибался, попадал впросак.
Я допускал грубейшие ошибки,
Не то твердил и поступал не так.
Я мало преуспел, хоть был, по сути,
Студентом вечным в этом институте.
Однажды и со мной случилось чудо,
Иль по-другому это назови:
Стоял я над могилою Махмуда,
И встал из гроба он, певец любви.
И я сказал: «Как быть мне, научи,
Мое волненье в строки не ложится.
Прошу, учитель, одолжи ключи
Мне от ларца, где наш талант хранится».
И выслушал меня Любви певец
И, свой пандур отставив осторожно,
Ответил так: «Заветный тот ларец
Лишь собственным ключом открыть возможно.
Ищи, и ключ найдешь ты наконец,
И спетое тобой не будет ложно!»
Иль по-другому это назови:
Стоял я над могилою Махмуда,
И встал из гроба он, певец любви.
И я сказал: «Как быть мне, научи,
Мое волненье в строки не ложится.
Прошу, учитель, одолжи ключи
Мне от ларца, где наш талант хранится».
И выслушал меня Любви певец
И, свой пандур отставив осторожно,
Ответил так: «Заветный тот ларец
Лишь собственным ключом открыть возможно.
Ищи, и ключ найдешь ты наконец,
И спетое тобой не будет ложно!»
Маневры – это битва без войны.
Проходят танки по земле дрожащей.
И хоть огни разрывов не слышны,
Грохочет гром почти что настоящий.
Иной из нас считать любовь готов
Игрой, где быть не может неудачи,
И крепости сердец лишь громом слов
Он осаждает, чтоб понудить к сдаче.
А я люблю и потому в огне
Иду и знаю горечь поражений,
Не на маневрах я, а на войне,
Где нет ни отпусков, ни увольнений.
Я – рядовой, и рядовому мне
Наград досталось меньше, чем ранений.
Проходят танки по земле дрожащей.
И хоть огни разрывов не слышны,
Грохочет гром почти что настоящий.
Иной из нас считать любовь готов
Игрой, где быть не может неудачи,
И крепости сердец лишь громом слов
Он осаждает, чтоб понудить к сдаче.
А я люблю и потому в огне
Иду и знаю горечь поражений,
Не на маневрах я, а на войне,
Где нет ни отпусков, ни увольнений.
Я – рядовой, и рядовому мне
Наград досталось меньше, чем ранений.
За труд и подвиг щедро награждает
Страна сынов и дочерей своих.
Для множества указов наградных
Порой в газетах места не хватает.
А я хочу, чтобы в стране моей
И за любовь, за верность награждали,
Чтоб на груди у любящих людей
И ордена горели б, и медали.
Но для любви нет орденов, и жаль,
Что с этим мирятся законоведы.
Мне, может, дали б верности медаль,
Тебя венчали б орденом победы.
Но счастье, что любви наград не надо.
Любовь, она сама и есть награда.
Страна сынов и дочерей своих.
Для множества указов наградных
Порой в газетах места не хватает.
А я хочу, чтобы в стране моей
И за любовь, за верность награждали,
Чтоб на груди у любящих людей
И ордена горели б, и медали.
Но для любви нет орденов, и жаль,
Что с этим мирятся законоведы.
Мне, может, дали б верности медаль,
Тебя венчали б орденом победы.
Но счастье, что любви наград не надо.
Любовь, она сама и есть награда.
Когда ведут невесту к мужу в дом,
Старинному обычаю в угоду
В нее бросают камни, а потом
Дают для утешенья ложку меда.
Так жениху с невестой земляки
Стараются напомнить для порядка
О том, что жизнь нам ставит синяки,
Но жить на белом свете все же сладко.
Обычай, что бытует и сейчас,
Я вспоминаю чаще год от году.
Я думаю, жена, что и для нас
Жизнь не жалеет ни камней, ни меду.
И так порою сладок этот мед,
Так жизнь сладка, хоть нас камнями бьет.
Старинному обычаю в угоду
В нее бросают камни, а потом
Дают для утешенья ложку меда.
Так жениху с невестой земляки
Стараются напомнить для порядка
О том, что жизнь нам ставит синяки,
Но жить на белом свете все же сладко.
Обычай, что бытует и сейчас,
Я вспоминаю чаще год от году.
Я думаю, жена, что и для нас
Жизнь не жалеет ни камней, ни меду.
И так порою сладок этот мед,
Так жизнь сладка, хоть нас камнями бьет.
Я маюсь болью сердца и души,
Длинна история моей болезни.
Ты снадобье мне, доктор, пропиши,
Назначь лекарство всех лекарств полезней.
Вели смотреть по нескольку часов
На ту, которой нету совершенней,
Пить влагу двух подбровных родников –
Такое, доктор, мне назначь леченье.
Назначь леченье светом и теплом,
Подумай, что в беде моей повинно,
И помоги мне разобраться в том,
Где следствие болезни, где причина.
И если все же я умру потом,
Ты будешь чист – бессильна медицина.
Длинна история моей болезни.
Ты снадобье мне, доктор, пропиши,
Назначь лекарство всех лекарств полезней.
Вели смотреть по нескольку часов
На ту, которой нету совершенней,
Пить влагу двух подбровных родников –
Такое, доктор, мне назначь леченье.
Назначь леченье светом и теплом,
Подумай, что в беде моей повинно,
И помоги мне разобраться в том,
Где следствие болезни, где причина.
И если все же я умру потом,
Ты будешь чист – бессильна медицина.
Тобою принесенные цветы
Стоят, поникнув в тишине больничной.
Над ними нет привычной высоты,
И нет корней, и нет земли привычной.
Они похожи на больных людей,
Живущих под опекою врачебной,
Которых поят влагою целебной,
И все ж они день ото дня слабей.
Больные люди, мы завороженно
На лепестки, на стебли, на бутоны,
На таинство недолгой красоты
Глядим и чувствуем, как непреклонно
Соединяют общие законы
Больных людей и чахлые цветы.
Стоят, поникнув в тишине больничной.
Над ними нет привычной высоты,
И нет корней, и нет земли привычной.
Они похожи на больных людей,
Живущих под опекою врачебной,
Которых поят влагою целебной,
И все ж они день ото дня слабей.
Больные люди, мы завороженно
На лепестки, на стебли, на бутоны,
На таинство недолгой красоты
Глядим и чувствуем, как непреклонно
Соединяют общие законы
Больных людей и чахлые цветы.
Ты говоришь, что должен я всегда
Беречь себя во что бы то ни стало,
И так я прожил лишние года,
Хоть я и не берег себя нимало.
Как много было у меня друзей,
Но и своих друзей не мог сберечь я,
И многие ушли в расцвете дней
Давным-давно, еще до нашей встречи.
Как можно уберечься от забот,
От горя, боли, от переживанья,
От времени, что торопясь идет,
Считая наши годы и деянья?
Пусть я не берегусь, но бережет
Меня от бед твое существованье.
Беречь себя во что бы то ни стало,
И так я прожил лишние года,
Хоть я и не берег себя нимало.
Как много было у меня друзей,
Но и своих друзей не мог сберечь я,
И многие ушли в расцвете дней
Давным-давно, еще до нашей встречи.
Как можно уберечься от забот,
От горя, боли, от переживанья,
От времени, что торопясь идет,
Считая наши годы и деянья?
Пусть я не берегусь, но бережет
Меня от бед твое существованье.
Часы, не дремлющие на стене,
Отпущенное мне считали строго.
«Тик-так, – они когда-то пели мне. –
Еще не время, погоди немного!»
Мне радости принес их мерный ход.
Мне песня их была всего милее:
«Тик-так, еще неполный оборот,
И встретишься ты с милою своею!»
Идут часы, идут, не зная сна,
По своему закону и науке.
И ныне их мелодия грустна.
«Тик-так, тик-так, тик-так», – печальны звуки,
Считающие горькие разлуки,
Твердящие: «Прошла твоя весна!»
Отпущенное мне считали строго.
«Тик-так, – они когда-то пели мне. –
Еще не время, погоди немного!»
Мне радости принес их мерный ход.
Мне песня их была всего милее:
«Тик-так, еще неполный оборот,
И встретишься ты с милою своею!»
Идут часы, идут, не зная сна,
По своему закону и науке.
И ныне их мелодия грустна.
«Тик-так, тик-так, тик-так», – печальны звуки,
Считающие горькие разлуки,
Твердящие: «Прошла твоя весна!»
Я в жизни многим многое прощал,
И на меня обиды не таили,
Сады, чьи листья осенью топтал,
Опять весною мне листву дарили.
Я и весенних не ценил щедрот,
Но не была весна ко мне сурова
И, все забыв, на следующий год
Меня своим теплом дарила снова.
А ты считаешь каждый мой огрех
И приговор выносишь слишком рано.
Ты, что добрей и совершенней всех,
Речей моих не слышишь покаянных.
Ты совершаешь тоже тяжкий грех:
Ты замечаешь все мои изъяны.
И на меня обиды не таили,
Сады, чьи листья осенью топтал,
Опять весною мне листву дарили.
Я и весенних не ценил щедрот,
Но не была весна ко мне сурова
И, все забыв, на следующий год
Меня своим теплом дарила снова.
А ты считаешь каждый мой огрех
И приговор выносишь слишком рано.
Ты, что добрей и совершенней всех,
Речей моих не слышишь покаянных.
Ты совершаешь тоже тяжкий грех:
Ты замечаешь все мои изъяны.
Твой дом стоит на этой стороне,
А мой напротив, и на середину
Я вышел и стою, а ветер мне
Нещадно дует то в лицо, то в спину.
И дохожу я до твоих ворот,
Но заперты они, закрыты ставни,
И постучать в окно мне не дает
Воспоминание обид недавних.
И, повернувшись, я домой, назад
Плетусь опять в оцепененье странном.
Доплелся: руки у меня дрожат.
Ищу я ключ, я шарю по карманам.
Но нет ключа нигде, и я стою,
Несмело глядя в сторону твою.
А мой напротив, и на середину
Я вышел и стою, а ветер мне
Нещадно дует то в лицо, то в спину.
И дохожу я до твоих ворот,
Но заперты они, закрыты ставни,
И постучать в окно мне не дает
Воспоминание обид недавних.
И, повернувшись, я домой, назад
Плетусь опять в оцепененье странном.
Доплелся: руки у меня дрожат.
Ищу я ключ, я шарю по карманам.
Но нет ключа нигде, и я стою,
Несмело глядя в сторону твою.
Слеза, что по щеке твоей стекла,
Речь обретя хотя бы на мгновенье,
Наверно б, строго упрекнуть могла
Меня в моем невольном появленье.
Твоей косы поблекшей седина
Не может и не хочет скрыть упрека,
Давая мне понять: моя вина,
Что пряди стали белыми до срока.
Родная, не тумань слезами взгляд,
Жизнь не одними бедами богата,
Тебя прошу я, оглянись назад,
Ведь было много светлого когда-то.
Во имя прошлого, всего, что свято,
Прости меня, хоть я и виноват.
Речь обретя хотя бы на мгновенье,
Наверно б, строго упрекнуть могла
Меня в моем невольном появленье.
Твоей косы поблекшей седина
Не может и не хочет скрыть упрека,
Давая мне понять: моя вина,
Что пряди стали белыми до срока.
Родная, не тумань слезами взгляд,
Жизнь не одними бедами богата,
Тебя прошу я, оглянись назад,
Ведь было много светлого когда-то.
Во имя прошлого, всего, что свято,
Прости меня, хоть я и виноват.
Не верь ты сверстнице своей бесстыдной,
Что на меня выплескивает грязь.
Любима ты, и, бедной, ей обидно,
Ведь и она красивой родилась.
Соседку старшую не слушай тоже,
Во всем ей чудится моя вина.
Обидно ей, что ты ее моложе
И что любима ты, а не она.
Пусть младшая соседка небылицы,
Меня ругая, станет городить,
Прошу: не верь, она того боится,
Что ей любимою, как ты, не быть.
От века злыми сплетницами были
Те женщины, которых не любили.
Что на меня выплескивает грязь.
Любима ты, и, бедной, ей обидно,
Ведь и она красивой родилась.
Соседку старшую не слушай тоже,
Во всем ей чудится моя вина.
Обидно ей, что ты ее моложе
И что любима ты, а не она.
Пусть младшая соседка небылицы,
Меня ругая, станет городить,
Прошу: не верь, она того боится,
Что ей любимою, как ты, не быть.
От века злыми сплетницами были
Те женщины, которых не любили.
Ты задаешь вопрос свой не впервые.
Я отвечаю: не моя вина,
Что есть на свете женщины другие,
Их тысячи, других, а ты – одна.
Вот ты стоишь, тихонько поправляя
Пять пуговиц на кофте голубой.
И точка, что чернеет над губой,
Как сломанная пуговка шестая.
И ты опять, не слышав слов моих,
Вопрос извечный задаешь мне строго.
Кто виноват, стран и народов много
И много женщин на земле других.
Но изменяю я с тобой одной
Всем женщинам, рожденным под луной.
Я отвечаю: не моя вина,
Что есть на свете женщины другие,
Их тысячи, других, а ты – одна.
Вот ты стоишь, тихонько поправляя
Пять пуговиц на кофте голубой.
И точка, что чернеет над губой,
Как сломанная пуговка шестая.
И ты опять, не слышав слов моих,
Вопрос извечный задаешь мне строго.
Кто виноват, стран и народов много
И много женщин на земле других.
Но изменяю я с тобой одной
Всем женщинам, рожденным под луной.
Поскольку знаю, что уже давно
Доверья к слову меньше, чем к бумажке,
Пишу я: «Настоящее дано
В том, что люблю я преданно и тяжко.
Что обязуюсь до скончанья дней
Безропотно служить своей любимой,
Что будет страсть моя необоримой
И с каждым днем все жарче и сильней!»
И с давних дней, воистину любя,
Что вызывает у иных сомненье,
Подписываю это сочиненье
Почетным званьем «Любящий тебя»
И отдаю на вечное храненье
Тебе, печатью круглою скрепя.
Доверья к слову меньше, чем к бумажке,
Пишу я: «Настоящее дано
В том, что люблю я преданно и тяжко.
Что обязуюсь до скончанья дней
Безропотно служить своей любимой,
Что будет страсть моя необоримой
И с каждым днем все жарче и сильней!»
И с давних дней, воистину любя,
Что вызывает у иных сомненье,
Подписываю это сочиненье
Почетным званьем «Любящий тебя»
И отдаю на вечное храненье
Тебе, печатью круглою скрепя.
Бывает в жизни нашей час такой,
Когда безмолвно, ни о чем не споря,
Мы, подбородок подперев рукой,
Перед огнем сидим или у моря.
Сидим, не затеваем разговор
Ни о красотах мира, ни о деле,
Как бы боясь, что наш извечный спор
Детей разбудит, спящих в колыбели.
Вот так с тобой сидим мы и сейчас,
Молчим мы, но в молчанье наше вложен
Весь мир, в сердцах таящийся у нас,
Все то, что речью выразить не можем.
На свете нету даже горных рек,
Шумящих беспрерывно весь свой век.
Когда безмолвно, ни о чем не споря,
Мы, подбородок подперев рукой,
Перед огнем сидим или у моря.
Сидим, не затеваем разговор
Ни о красотах мира, ни о деле,
Как бы боясь, что наш извечный спор
Детей разбудит, спящих в колыбели.
Вот так с тобой сидим мы и сейчас,
Молчим мы, но в молчанье наше вложен
Весь мир, в сердцах таящийся у нас,
Все то, что речью выразить не можем.
На свете нету даже горных рек,
Шумящих беспрерывно весь свой век.
Путей на свете бесконечно много,
Не счесть дорог опасных и крутых,
Но понял я давно: любви дорога
Длинней и круче всех дорог других.
И хоть длинней других дорога эта,
Но без нее никто прожить не мог.
И хоть страшней других дорога эта,
Она заманчивей других дорог.
Мне кажется, что молод я, покуда
В дороге этой вечной нахожусь.
Я падал, падаю и падать буду,
Но я встаю, бегу, иду, плетусь.
И я с дороги сбиться не боюсь:
Твой яркий свет мне виден отовсюду.
Не счесть дорог опасных и крутых,
Но понял я давно: любви дорога
Длинней и круче всех дорог других.
И хоть длинней других дорога эта,
Но без нее никто прожить не мог.
И хоть страшней других дорога эта,
Она заманчивей других дорог.
Мне кажется, что молод я, покуда
В дороге этой вечной нахожусь.
Я падал, падаю и падать буду,
Но я встаю, бегу, иду, плетусь.
И я с дороги сбиться не боюсь:
Твой яркий свет мне виден отовсюду.
Ужели я настолько нехорош,
Что вы на одного меня напали,
Все недруги людские: зависть, ложь,
Болезни, годы, злоба и так дале?..
Ну что ж, меня осилить не трудней,
Чем всех других, которых вы убили.
Но вам не погубить любви моей,
Я перед нею даже сам бессилен.
Ей жить и жить, и нет врагов таких,
Которые убьют ее величье.
Моя любовь до правнуков моих
Дойдет, как поговорка или притча.
И будет в нашей отчей стороне
Нерукотворным памятником мне.
Что вы на одного меня напали,
Все недруги людские: зависть, ложь,
Болезни, годы, злоба и так дале?..
Ну что ж, меня осилить не трудней,
Чем всех других, которых вы убили.
Но вам не погубить любви моей,
Я перед нею даже сам бессилен.
Ей жить и жить, и нет врагов таких,
Которые убьют ее величье.
Моя любовь до правнуков моих
Дойдет, как поговорка или притча.
И будет в нашей отчей стороне
Нерукотворным памятником мне.
В училище Любви, будь молод или сед,
Лелеешь, как в святилище, ты слово
И каждый день сдаешь экзамен снова.
В училище Любви каникул нет.
Где ходим мы по лезвиям клинков,
И оставаться трудно безупречным,
В училище Любви студентом вечным
Хотел бы слыть, касаясь облаков.
В училище Любви мы выражать
Года свои не доверяем числам.
И, хоть убей, не в силах здравым смыслом
Прекрасные порывы поверять.
И женщину молю: благослови
Мою судьбу в училище Любви!
Лелеешь, как в святилище, ты слово
И каждый день сдаешь экзамен снова.
В училище Любви каникул нет.
Где ходим мы по лезвиям клинков,
И оставаться трудно безупречным,
В училище Любви студентом вечным
Хотел бы слыть, касаясь облаков.
В училище Любви мы выражать
Года свои не доверяем числам.
И, хоть убей, не в силах здравым смыслом
Прекрасные порывы поверять.
И женщину молю: благослови
Мою судьбу в училище Любви!
Больной, я в палате лежу госпитальной
И в исповедальной ее тишине
К врачу обращаюсь я с просьбой печальной:
– Прошу, никого не впускайте ко мне.
Встречаться со мною и нощно и денно
Здесь может одна только женщина гор.
Насквозь она видит меня без рентгена,
Ей ведом триумф мой и ведом позор!
Ношу я на сердце достойные шрамы,
Его никому не сдавая внаем,
И может подробнее кардиограммы
Она вам поведать о сердце моем.
И, кроме нее, приходящих извне,
Прошу, никого не впускайте ко мне.
И в исповедальной ее тишине
К врачу обращаюсь я с просьбой печальной:
– Прошу, никого не впускайте ко мне.
Встречаться со мною и нощно и денно
Здесь может одна только женщина гор.
Насквозь она видит меня без рентгена,
Ей ведом триумф мой и ведом позор!
Ношу я на сердце достойные шрамы,
Его никому не сдавая внаем,
И может подробнее кардиограммы
Она вам поведать о сердце моем.
И, кроме нее, приходящих извне,
Прошу, никого не впускайте ко мне.
Царицей прослыв в государстве Любви,
Столетье двадцатое ты не гневи!
Монархия – песенка спетая.
Отрекшись от трона, сама объяви
Республикой ты государство Любви,
Монархия – песенка спетая!
Подобно колонии, был я гобой
Легко завоеван в дали голубой,
Но к воле путь знаю колонии...
– Ах, милый бунтарь, в государстве Любви
Отречься от власти меня не зови,
Когда ты сторонник гармонии.
Уйду – станешь тем озадачен,
Что женщиной снова захвачен.
Столетье двадцатое ты не гневи!
Монархия – песенка спетая.
Отрекшись от трона, сама объяви
Республикой ты государство Любви,
Монархия – песенка спетая!
Подобно колонии, был я гобой
Легко завоеван в дали голубой,
Но к воле путь знаю колонии...
– Ах, милый бунтарь, в государстве Любви
Отречься от власти меня не зови,
Когда ты сторонник гармонии.
Уйду – станешь тем озадачен,
Что женщиной снова захвачен.
С головою повинною я
Обращаюсь к тебе, моей милой:
– Не гневись, мой Верховный Судья,
Пощади, сделай милость, помилуй!
Если правишь ты праведный суд,
То припомни обычай Востока.
Он о том говорит не без прока,
Что повинных голов не секут.
Не впервые тобой я судим
За проступок, что признан греховным.
Ты Судьей моим стала Верховным,
Кто ж защитником будет моим?
Может, ты – мой Верховный Судья
Станешь им, доброты не тая?
Обращаюсь к тебе, моей милой:
– Не гневись, мой Верховный Судья,
Пощади, сделай милость, помилуй!
Если правишь ты праведный суд,
То припомни обычай Востока.
Он о том говорит не без прока,
Что повинных голов не секут.
Не впервые тобой я судим
За проступок, что признан греховным.
Ты Судьей моим стала Верховным,
Кто ж защитником будет моим?
Может, ты – мой Верховный Судья
Станешь им, доброты не тая?
На пенсию выходят ветераны,
Заслуги их, и подвиги, и раны
Забыть годам грядущим не дано.
А чем заняться этим людям старым,
Прильнув к перу, предаться мемуарам
Иль по соседним разбрестись бульварам
Затем, чтобы сражаться в домино?
Для поздних лет не все тропинки торны,
Зато любви все возрасты покорны,
Ее кавказский пленник я по гроб.
В отставку? Нет! Милы мне женщин чары.
Они мои давнишние сардары,
Пишу стихи о них, а мемуары
Писать не стану – лучше пуля в лоб!
Заслуги их, и подвиги, и раны
Забыть годам грядущим не дано.
А чем заняться этим людям старым,
Прильнув к перу, предаться мемуарам
Иль по соседним разбрестись бульварам
Затем, чтобы сражаться в домино?
Для поздних лет не все тропинки торны,
Зато любви все возрасты покорны,
Ее кавказский пленник я по гроб.
В отставку? Нет! Милы мне женщин чары.
Они мои давнишние сардары,
Пишу стихи о них, а мемуары
Писать не стану – лучше пуля в лоб!
В Дербенте виноградари гуляли,
И возносилась древняя лоза,
И предо мной, зеленые, мерцали
Твои, как виноградины, глаза.
В Японии попал я ненароком
На праздник вишни. И твои уста,
С вишневым породнившиеся соком,
Припоминал в разлуке неспроста.
На праздник роз меня позвав, болгары
С вином багряным сдвинули бокалы,
Но догадаться не были вольны,
Что вспоминал я, их веселью вторя,
Как на заре выходишь ты из моря
По розовому кружеву волны.
И возносилась древняя лоза,
И предо мной, зеленые, мерцали
Твои, как виноградины, глаза.
В Японии попал я ненароком
На праздник вишни. И твои уста,
С вишневым породнившиеся соком,
Припоминал в разлуке неспроста.
На праздник роз меня позвав, болгары
С вином багряным сдвинули бокалы,
Но догадаться не были вольны,
Что вспоминал я, их веселью вторя,
Как на заре выходишь ты из моря
По розовому кружеву волны.
На кубинском карнавале помню я, как выбирали
Королеву Красоты.
И сказали мне: – Друг чести, избирай со всеми вместе
Королеву Красоты.
Горяча, как поединок, кровь пленительных кубинок,
И прекрасны их черты.
Ходят стройно, смотрят знойно, и любая быть достойна
Королевой Красоты.
Вдруг за далью океана встали горы Дагестана,
Белоснежные хребты.
И на царственной вершине посреди небесной сини
Предо мной явилась ты!
Я тотчас воскликнул: «Здравствуй!» Отозвалось эхо:
«Властвуй,
Королева Красоты!»
Королеву Красоты.
И сказали мне: – Друг чести, избирай со всеми вместе
Королеву Красоты.
Горяча, как поединок, кровь пленительных кубинок,
И прекрасны их черты.
Ходят стройно, смотрят знойно, и любая быть достойна
Королевой Красоты.
Вдруг за далью океана встали горы Дагестана,
Белоснежные хребты.
И на царственной вершине посреди небесной сини
Предо мной явилась ты!
Я тотчас воскликнул: «Здравствуй!» Отозвалось эхо:
«Властвуй,
Королева Красоты!»
В размолвке мы, но жаждем примиренья,
И ты считаешь, что без промедленья
Я должен сделать первый шаг к нему.
И мысленно торю к тебе тропинку,
И на ладонь беру твою слезинку.
И говорю: – Печальна почему? –
И слышу вдруг: – Любимую утешь ты,
Закат обиды и восход надежды
Заметить, друг, во мне не мудрено.
Мое мерцанье – это мановенье,
Чтобы явилось чудное мгновенье,
Проси прощенья, явится оно.
Не потому ли, что была гроза,
Светла твоя последняя слеза?
И ты считаешь, что без промедленья
Я должен сделать первый шаг к нему.
И мысленно торю к тебе тропинку,
И на ладонь беру твою слезинку.
И говорю: – Печальна почему? –
И слышу вдруг: – Любимую утешь ты,
Закат обиды и восход надежды
Заметить, друг, во мне не мудрено.
Мое мерцанье – это мановенье,
Чтобы явилось чудное мгновенье,
Проси прощенья, явится оно.
Не потому ли, что была гроза,
Светла твоя последняя слеза?
Я давал Любви присягу,
Клялся, страстью одержим:
– Вспять не сделаю ни шагу
Перед знаменем твоим.
Сгину, проклятый судьбою,
Если тайна хоть одна,
Что доверена тобою,
Будет мной разглашена.
И тебе, как воин стягу,
Поклонюсь еще не раз,
И костьми скорее лягу,
Чем нарушу твой приказ...
Я давал Любви присягу,
Взяв в свидетели Кавказ.
Клялся, страстью одержим:
– Вспять не сделаю ни шагу
Перед знаменем твоим.
Сгину, проклятый судьбою,
Если тайна хоть одна,
Что доверена тобою,
Будет мной разглашена.
И тебе, как воин стягу,
Поклонюсь еще не раз,
И костьми скорее лягу,
Чем нарушу твой приказ...
Я давал Любви присягу,
Взяв в свидетели Кавказ.
На площади, где марши ликовали,
Мы шествие военных наблюдали,
Увенчанных созвездьями наград.
Вдруг я сказал: – Имел бы вдоволь власти,
Дивизиям, сгорающим от страсти,
Назначил бы торжественный парад,
Чтоб, на седых мужей держа равненье,
С нашивками за славные раненья
Держали строй влюбленные всех стран.
Я за тебя и умереть готовый,
Шагал бы с ними, как правофланговый.–
Ты рассмеялась: – Ах, мой ветеран!
Зачем парад влюбленным и равненье,
Им во сто крат милей уединенье.
Мы шествие военных наблюдали,
Увенчанных созвездьями наград.
Вдруг я сказал: – Имел бы вдоволь власти,
Дивизиям, сгорающим от страсти,
Назначил бы торжественный парад,
Чтоб, на седых мужей держа равненье,
С нашивками за славные раненья
Держали строй влюбленные всех стран.
Я за тебя и умереть готовый,
Шагал бы с ними, как правофланговый.–
Ты рассмеялась: – Ах, мой ветеран!
Зачем парад влюбленным и равненье,
Им во сто крат милей уединенье.
Войны, раны и недуги
Угрожают мне давно:
– Ни в какой от нас кольчуге
Не спасешься все равно.
В грудь мне целит быстротечный
День, как кровник на скаку:
– Для чего, поэт беспечный,
Пел любовь ты на веку?
Но, всему познавший цену,
На снегу взрастив вербену,
Утверждаю вновь и вновь:
– Сможет войны, ложь, измену
И седых столетий смену
Пережить моя любовь!
Угрожают мне давно:
– Ни в какой от нас кольчуге
Не спасешься все равно.
В грудь мне целит быстротечный
День, как кровник на скаку:
– Для чего, поэт беспечный,
Пел любовь ты на веку?
Но, всему познавший цену,
На снегу взрастив вербену,
Утверждаю вновь и вновь:
– Сможет войны, ложь, измену
И седых столетий смену
Пережить моя любовь!
В прядильне неба женщины соткали,
Когда земные пели соловьи,
Из радости, надежды и печали
Полотнище для знамени Любви.
И с той поры, как вздыбленностью суши
Кавказ опередил полет ракет,
Не это ль знамя осеняет души
И отражает их небесный свет?
Сердечных мук, друзья, не опасайтесь,
Чтоб в пору вьюг вам пели соловьи.
И женщинам, ликуя, поклоняйтесь,
Храня подобье Африки в крови...
«Влюбленные всех стран, соединяйтесь!» –
Я начертал на знамени Любви!
Когда земные пели соловьи,
Из радости, надежды и печали
Полотнище для знамени Любви.
И с той поры, как вздыбленностью суши
Кавказ опередил полет ракет,
Не это ль знамя осеняет души
И отражает их небесный свет?
Сердечных мук, друзья, не опасайтесь,
Чтоб в пору вьюг вам пели соловьи.
И женщинам, ликуя, поклоняйтесь,
Храня подобье Африки в крови...
«Влюбленные всех стран, соединяйтесь!» –
Я начертал на знамени Любви!
Твоя сказала мама: – Посмотрим, ухажер,
Дубовый пень ты сможешь
В дрова ты превратить?
Был пень железным, как топор,
А сам топор, как пень, остер.
Но смог, в тебя влюбленный, очаг я растопить.
Жизнь подает порою топор мне до сих пор:
– Вот пень! Руби, приятель! –
Огонь почти угас,
А пень железный, как топор,
А сам топор, как пень, остер,
Но вновь я заставляю огонь пуститься в пляс.
И от тебя не слышал поныне горьких слов
О том, что меньше стало в камине нашем дров.
Дубовый пень ты сможешь
В дрова ты превратить?
Был пень железным, как топор,
А сам топор, как пень, остер.
Но смог, в тебя влюбленный, очаг я растопить.
Жизнь подает порою топор мне до сих пор:
– Вот пень! Руби, приятель! –
Огонь почти угас,
А пень железный, как топор,
А сам топор, как пень, остер,
Но вновь я заставляю огонь пуститься в пляс.
И от тебя не слышал поныне горьких слов
О том, что меньше стало в камине нашем дров.
О женщина, когда оставит вдруг
Тебя твой верный иль неверный друг,
Я прилечу к тебе из дальней дали,
Затем, чтоб утолить твои печали,
Поклонник и должник твоих заслуг.
В любви от века, излучая свет,
Тебя самоотверженнее нет.
Грустил ли, веселился ли, бывало,
Лишь ты меня всех лучше понимала,
Дарившая мне милость и совет.
Случись, чем жил, все повторить сначала,
С моим, как прежде, твой сольется след.
В моей судьбе ты значила немало,
И впредь так будет до скончанья лет.
Тебя твой верный иль неверный друг,
Я прилечу к тебе из дальней дали,
Затем, чтоб утолить твои печали,
Поклонник и должник твоих заслуг.
В любви от века, излучая свет,
Тебя самоотверженнее нет.
Грустил ли, веселился ли, бывало,
Лишь ты меня всех лучше понимала,
Дарившая мне милость и совет.
Случись, чем жил, все повторить сначала,
С моим, как прежде, твой сольется след.
В моей судьбе ты значила немало,
И впредь так будет до скончанья лет.
Аул Цада – мой Цадастан.
Не ведают границ аулы гор,
С их плоских крыш мир целый виден ныне.
И не способен заслонить простор
Могилы горцев в Праге иль Берлине.
И о событьях жизни мировой,
Произошедших даже на отшибе,
Одновременно узнают с Москвой
В моем Цада, в Хунзахе иль в Гунибе.
И на борту «Гамзата Цадасы»
Я странствовал в далеком океане.
И взвешивали звездные Весы
Деянья века в неземном тумане.
И отражен, как в капельке росы,
Весь белый свет был в отчем Цадастане.
Не ведают границ аулы гор,
С их плоских крыш мир целый виден ныне.
И не способен заслонить простор
Могилы горцев в Праге иль Берлине.
И о событьях жизни мировой,
Произошедших даже на отшибе,
Одновременно узнают с Москвой
В моем Цада, в Хунзахе иль в Гунибе.
И на борту «Гамзата Цадасы»
Я странствовал в далеком океане.
И взвешивали звездные Весы
Деянья века в неземном тумане.
И отражен, как в капельке росы,
Весь белый свет был в отчем Цадастане.
От слепоты искал я исцеленья,
И был совет мне вещим небом дан:
«Три слова ты охранного значенья
Произнеси, где третье – Дагестан.
Три слова произнес я в вышине,
И возвратилось зрение ко мне.
Ударил гром, и я оглох от грома,
Не слышу птиц, не слышу аульчан,
Но было заклинанье мне знакомо,
Его венчало слово «Дагестан».
Благодарю за то, что слышу снова
Я небеса, чьим светом осиян.
Ах, талисман мой – три заветных слова,
Два первых – тайна, третье – «Дагестан».
И был совет мне вещим небом дан:
«Три слова ты охранного значенья
Произнеси, где третье – Дагестан.
Три слова произнес я в вышине,
И возвратилось зрение ко мне.
Ударил гром, и я оглох от грома,
Не слышу птиц, не слышу аульчан,
Но было заклинанье мне знакомо,
Его венчало слово «Дагестан».
Благодарю за то, что слышу снова
Я небеса, чьим светом осиян.
Ах, талисман мой – три заветных слова,
Два первых – тайна, третье – «Дагестан».
Лене и Гале Гагариным
Я и Мирзо от родины вдали
О гибели Гагарина узнали,
Но, замерев на месте от печали,
Поверить этой вести не могли.
Когда в посольство мчались мы с приема,
Еще надежда на сердце была,
Но поняли: беда случилась дома, –
Увидев слезы на глазах посла.
И опустилась ночь над Тегераном,
Приют давая звездным караванам.
И думы, словно верные визири,
«Утешься тем, – шептали мне во мгле, –
Что смертен ты в подлунном этом мире,
А он, погибший, вечен на земле».
Я и Мирзо от родины вдали
О гибели Гагарина узнали,
Но, замерев на месте от печали,
Поверить этой вести не могли.
Когда в посольство мчались мы с приема,
Еще надежда на сердце была,
Но поняли: беда случилась дома, –
Увидев слезы на глазах посла.
И опустилась ночь над Тегераном,
Приют давая звездным караванам.
И думы, словно верные визири,
«Утешься тем, – шептали мне во мгле, –
Что смертен ты в подлунном этом мире,
А он, погибший, вечен на земле».
Собрался в страны дальние когда,
Сказала мать: «Ты гость простого люда,
И с добрым сердцем поезжай туда,
И с добрым сердцем возвратись оттуда».
Великий смысл таил ее завет,
И понял я пред истиной в ответе:
Плохих народов на планете нет.
Хоть есть плохие люди на планете.
Не потому ль поведал без вранья
О дальних странах Дагестану я?
И смог его во славу зрелых лет
Представить миру в нелукавом свете.
Мне материнский помнится завет,
И я, поэт, пред истиной в ответе.
Сказала мать: «Ты гость простого люда,
И с добрым сердцем поезжай туда,
И с добрым сердцем возвратись оттуда».
Великий смысл таил ее завет,
И понял я пред истиной в ответе:
Плохих народов на планете нет.
Хоть есть плохие люди на планете.
Не потому ль поведал без вранья
О дальних странах Дагестану я?
И смог его во славу зрелых лет
Представить миру в нелукавом свете.
Мне материнский помнится завет,
И я, поэт, пред истиной в ответе.
Над крышами плывет кизячный дым,
А улицы восходят на вершины.
Аул Цада – аварские Афины,
Теперь не часто видимся мы с ним.
Но стоит прилететь гостям ко мне,
Везу в Цада их, ибо нет сокровищ
Дороже для меня среди становищ
И звезд в одноплеменной вышине.
И в том могу поклясться, что когда
Ко мне б явились инопланетяне,
То с ними прилетел бы я в Цада
И объявил на Верхней им поляне,
Что не отдам, хоть мне они милы,
За целый Марс здесь ни одной скалы.
А улицы восходят на вершины.
Аул Цада – аварские Афины,
Теперь не часто видимся мы с ним.
Но стоит прилететь гостям ко мне,
Везу в Цада их, ибо нет сокровищ
Дороже для меня среди становищ
И звезд в одноплеменной вышине.
И в том могу поклясться, что когда
Ко мне б явились инопланетяне,
То с ними прилетел бы я в Цада
И объявил на Верхней им поляне,
Что не отдам, хоть мне они милы,
За целый Марс здесь ни одной скалы.
Лаура гор, прелестная аварка,
Чтобы воспеть тебя на целый свет,
Жаль не родился до сих пор Петрарка,
Где скальный к небу лепится хребет.
И над рекой, объятой скачкой громкой,
Быть может, ты, не ведая причуд,
Осталась бы прекрасной незнакомкой,
Когда бы не воспел тебя Махмуд.
И сам пою тебя я, но покуда
Не смог ни разу превзойти Махмуда.
Но верую, твоим покорный чарам,
Что явится в горах наверняка,
Кто воспоет тебя, владея даром
Поручика Тенгинского полка.
Чтобы воспеть тебя на целый свет,
Жаль не родился до сих пор Петрарка,
Где скальный к небу лепится хребет.
И над рекой, объятой скачкой громкой,
Быть может, ты, не ведая причуд,
Осталась бы прекрасной незнакомкой,
Когда бы не воспел тебя Махмуд.
И сам пою тебя я, но покуда
Не смог ни разу превзойти Махмуда.
Но верую, твоим покорный чарам,
Что явится в горах наверняка,
Кто воспоет тебя, владея даром
Поручика Тенгинского полка.
За минутой падает минута.
Кто ты, время? Может, душегуб?
И слетает грустно почему-то
Слово с улыбающихся губ.
Обронил над вымыслом я слезы,
Выдворив стихи во имя прозы:
– Молодых ищите стихотворцев,
Вам не место за моим столом!
Но они, забыв обычай горцев,
В двери к старшим лезут напролом.
И кричат мне, верные прологу,
С чашами веселыми в руках:
– Проза посох даст тебе в дорогу,
С нами – полетишь на облаках!
Кто ты, время? Может, душегуб?
И слетает грустно почему-то
Слово с улыбающихся губ.
Обронил над вымыслом я слезы,
Выдворив стихи во имя прозы:
– Молодых ищите стихотворцев,
Вам не место за моим столом!
Но они, забыв обычай горцев,
В двери к старшим лезут напролом.
И кричат мне, верные прологу,
С чашами веселыми в руках:
– Проза посох даст тебе в дорогу,
С нами – полетишь на облаках!
Полно красот в отеческих горах
Махмуд
Седло-гора на грани поднебесной
Когда-то, молвят, лошадью была,
Которую лихой ездок неместный
Вдруг оседлал и бросил удила.
И в поисках любви он в ту же пору
Исчез в Голотле, Чохе иль Цада.
И вскоре лошадь превратилась в гору,
Привязанная к небу навсегда.
А всадник тот, как слышал я от старцев,
Живет в горах поныне, где пленен
Тысячелетним мужеством аварцев
И красотою преданных им жен.
– Поверь, он знал, – твердили старцы эти, –
Где спешиться ему на белом свете.
Махмуд
Седло-гора на грани поднебесной
Когда-то, молвят, лошадью была,
Которую лихой ездок неместный
Вдруг оседлал и бросил удила.
И в поисках любви он в ту же пору
Исчез в Голотле, Чохе иль Цада.
И вскоре лошадь превратилась в гору,
Привязанная к небу навсегда.
А всадник тот, как слышал я от старцев,
Живет в горах поныне, где пленен
Тысячелетним мужеством аварцев
И красотою преданных им жен.
– Поверь, он знал, – твердили старцы эти, –
Где спешиться ему на белом свете.
Был мудрецом, кто изобрел часы,
И люди многоопытные знают:
Лишь мальчики часов не наблюдают,
Пока у них не вырастут усы.
Но как же мог я, взрослый человек,
В хмельной гульбе транжирить дни и ночи,
Того не наблюдая, что короче,
Врагам на радость, делался мой век?
И вознеслась гора моих грехов:
Я – времени убитого виновник
И собственных надежд безумный кровник
И света не увидевших стихов.
Раскаясь в том, я пожелать могу
Всю жизнь часов не наблюдать врагу.
И люди многоопытные знают:
Лишь мальчики часов не наблюдают,
Пока у них не вырастут усы.
Но как же мог я, взрослый человек,
В хмельной гульбе транжирить дни и ночи,
Того не наблюдая, что короче,
Врагам на радость, делался мой век?
И вознеслась гора моих грехов:
Я – времени убитого виновник
И собственных надежд безумный кровник
И света не увидевших стихов.
Раскаясь в том, я пожелать могу
Всю жизнь часов не наблюдать врагу.
Как будто гору лань, где пуля просвистела,
Мочь прежняя моя спешит покинуть тело.
О муза, грешен я, что суетно и праздно
Порой, хоть ты звала, летел на зов соблазна.
Раздумия мои кровоточат как раны,
Былых ошибок всех стянулися арканы.
И сам себя в слезах корю по той причине,
Что многое сказать я не сумел поныне.
И горько, что не все поведанное мною
Оставит в душах след под вечною луною.
Но в подреберье скал тропою козьей снова,
Как в поводу коня, веду к вершине слово.
И, времени слуга, во что бы то ни стало
Вновь высеку огонь, как из кремня кресало.
Мочь прежняя моя спешит покинуть тело.
О муза, грешен я, что суетно и праздно
Порой, хоть ты звала, летел на зов соблазна.
Раздумия мои кровоточат как раны,
Былых ошибок всех стянулися арканы.
И сам себя в слезах корю по той причине,
Что многое сказать я не сумел поныне.
И горько, что не все поведанное мною
Оставит в душах след под вечною луною.
Но в подреберье скал тропою козьей снова,
Как в поводу коня, веду к вершине слово.
И, времени слуга, во что бы то ни стало
Вновь высеку огонь, как из кремня кресало.
Дарована эпоха мне была,
Чьи подвиги, чьи имена и слава
Не зря на вечность предъявляли право,
Ударив о себе в колокола.
И за листком листок, готовясь к чуду,
С календаря надежды я срывал,
Но, как Марьям прекрасная Махмуду,
Мне не доставалось то, о чем мечтал.
И сердце, что привыкло к непокою,
Печально прикрываю я рукою.
Но в нем не зря горит огонь признанья,
Чтоб мог я видеть даже сквозь метель,
Как родина в порыве упованья
Грядущего качает колыбель.
Чьи подвиги, чьи имена и слава
Не зря на вечность предъявляли право,
Ударив о себе в колокола.
И за листком листок, готовясь к чуду,
С календаря надежды я срывал,
Но, как Марьям прекрасная Махмуду,
Мне не доставалось то, о чем мечтал.
И сердце, что привыкло к непокою,
Печально прикрываю я рукою.
Но в нем не зря горит огонь признанья,
Чтоб мог я видеть даже сквозь метель,
Как родина в порыве упованья
Грядущего качает колыбель.
У Шамиля мюрид искусный был
Из Унцукуля родом. Мастерил
Курительные трубки и уменьем
Всех мастеров Востока он затмил.
Но повелел имам всевластный так:
«Рубить башку курящему табак!»
И привели несчастного мюрида
К нему на суд. И смерти ждал бедняк.
– Все ведомо нам о твоей вине, –
Сказал Шамиль, – подай-ка трубку мне! –
И молча стал разглядывать изделье,
Потом наиба кликнул в тишине:
– Вели, чтоб принесли мне табаку,
Не часто чудо видишь на веку!
Из Унцукуля родом. Мастерил
Курительные трубки и уменьем
Всех мастеров Востока он затмил.
Но повелел имам всевластный так:
«Рубить башку курящему табак!»
И привели несчастного мюрида
К нему на суд. И смерти ждал бедняк.
– Все ведомо нам о твоей вине, –
Сказал Шамиль, – подай-ка трубку мне! –
И молча стал разглядывать изделье,
Потом наиба кликнул в тишине:
– Вели, чтоб принесли мне табаку,
Не часто чудо видишь на веку!
Я помню чудное мгновенье…
В горах иные больше века
Живут, достойные хвалы,
Но долговечней человека
Над ним парящие орлы.
Зато ему с его мечтами
Дана превыше благодать:
Деяньями, а не летами
Судьбу земную исчислять.
Три века жить – надежд не строю,
Но мысль вернее, чем крыла,
Сквозь даль времен она, не скрою,
Меня пленительно несла.
И может чудный миг порою
Быть долговечнее орла.
В горах иные больше века
Живут, достойные хвалы,
Но долговечней человека
Над ним парящие орлы.
Зато ему с его мечтами
Дана превыше благодать:
Деяньями, а не летами
Судьбу земную исчислять.
Три века жить – надежд не строю,
Но мысль вернее, чем крыла,
Сквозь даль времен она, не скрою,
Меня пленительно несла.
И может чудный миг порою
Быть долговечнее орла.
– Зачем, душа, печалясь о других,
Ты забываешь о себе при этом?
– Когда не я, кто ж пожалеет их?
И что, подумай, станет с белым светом?
– Зачем вес век других, а не меня
Спасало ты, мной сказанное слово?
– Забудь себя, но выручи другого –
Таков завет и нынешнего дня.
Моей душе печалиться не ново,
Бездумное веселье отстраня.
Хоть ко всему душа моя готова,
Но смерть свою повременить молю,
Чтоб не оставить сиротою Слово
И без любви всех тех, кого люблю.
Ты забываешь о себе при этом?
– Когда не я, кто ж пожалеет их?
И что, подумай, станет с белым светом?
– Зачем вес век других, а не меня
Спасало ты, мной сказанное слово?
– Забудь себя, но выручи другого –
Таков завет и нынешнего дня.
Моей душе печалиться не ново,
Бездумное веселье отстраня.
Хоть ко всему душа моя готова,
Но смерть свою повременить молю,
Чтоб не оставить сиротою Слово
И без любви всех тех, кого люблю.
Умерший должен предан быть земле,
Где умер он, так небо начертало.
Отец мой погребен в Махачкале,
И смотрит он на площадь с пьедестала.
А брат, от ран погибший на войне,
Над Волгой похоронен в Балашове.
Другой, в бою не пожалевший крови,
Остался в черноморской глубине.
В Буйнакске мать моя погребена,
Была святейшей женщиной она.
Я старшим стал, теперь черед за мной.
Но, где бы от недуга или пули
Я ни окончил грешный путь земной,
Молю меня похоронить в ауле.
Где умер он, так небо начертало.
Отец мой погребен в Махачкале,
И смотрит он на площадь с пьедестала.
А брат, от ран погибший на войне,
Над Волгой похоронен в Балашове.
Другой, в бою не пожалевший крови,
Остался в черноморской глубине.
В Буйнакске мать моя погребена,
Была святейшей женщиной она.
Я старшим стал, теперь черед за мной.
Но, где бы от недуга или пули
Я ни окончил грешный путь земной,
Молю меня похоронить в ауле.
Магомеду Танкаеву
Тебя однажды повстречал
Я под берлинским небосводом:
– Откуда будешь, генерал?
– Я из Гидатля буду родом!
Мой соплеменник боевой,
Кавказец доблестной чеканки,
На той войне горевший в танке,
Стройнее нет твоей осанки,
Боец с седою головой.
Где память прошлого жива –
Уже три века о Хочбаре
Летит стоустая молва.
И о твоем военном даре
Пусть к ней прибавятся слова.
Тебя однажды повстречал
Я под берлинским небосводом:
– Откуда будешь, генерал?
– Я из Гидатля буду родом!
Мой соплеменник боевой,
Кавказец доблестной чеканки,
На той войне горевший в танке,
Стройнее нет твоей осанки,
Боец с седою головой.
Где память прошлого жива –
Уже три века о Хочбаре
Летит стоустая молва.
И о твоем военном даре
Пусть к ней прибавятся слова.
Ценивший всякий истинный талант
(О том дойдет пускай рассказ до внуков),
На выставке картин был маршал Жуков,
С которым находился адъютант.
Перед иной картиной на минутку,
Беседуя, задерживался он.
И вдруг солдат, свернувший самокрутку,
Под небом фронтовым изображен,
Готовый, словно Теркин, бросить шутку,
Ему предстал, войною опален.
Он, с тем солдатом встретившийся взглядом,
Не вымолвил и слова одного.
И видел адъютант, стоявший рядом,
Что были слезы на глазах его.
(О том дойдет пускай рассказ до внуков),
На выставке картин был маршал Жуков,
С которым находился адъютант.
Перед иной картиной на минутку,
Беседуя, задерживался он.
И вдруг солдат, свернувший самокрутку,
Под небом фронтовым изображен,
Готовый, словно Теркин, бросить шутку,
Ему предстал, войною опален.
Он, с тем солдатом встретившийся взглядом,
Не вымолвил и слова одного.
И видел адъютант, стоявший рядом,
Что были слезы на глазах его.
Пойдем, друг детства Магомет, наследник Магомы,
Аульских коз пасти чуть свет на горном склоне мы.
Или капканами с тобой наловим хомяков
И обменяем шкуры их на хлеб у скорняков.
А может быть, в базарный день отправимся в Хунзах
И раздобудем яблок там на свой и риск и страх?
А может быть… Ах, я забыл, друг детства Магомет,
Что в мире с той поры легло меж нами сорок лет.
И надмогильный камень твой, как и в иные зимы,
Давно покинувший меня наследник Магомы.
Тебе неведомо, мой друг, ушедший в глубь веков,
Как много нынче развелось двуногих хомяков.
Склонил я голову. Мне жаль, что нет тебя в живых,
А то б с тобою вместе мы сдирали шкуры с них.
Аульских коз пасти чуть свет на горном склоне мы.
Или капканами с тобой наловим хомяков
И обменяем шкуры их на хлеб у скорняков.
А может быть, в базарный день отправимся в Хунзах
И раздобудем яблок там на свой и риск и страх?
А может быть… Ах, я забыл, друг детства Магомет,
Что в мире с той поры легло меж нами сорок лет.
И надмогильный камень твой, как и в иные зимы,
Давно покинувший меня наследник Магомы.
Тебе неведомо, мой друг, ушедший в глубь веков,
Как много нынче развелось двуногих хомяков.
Склонил я голову. Мне жаль, что нет тебя в живых,
А то б с тобою вместе мы сдирали шкуры с них.
Великий Петр, герой Полтавы, мне
Ты видишься на вздыбленном коне.
Судьбой завидной было суждено
Тебе в Европу прорубить окно.
И помнит Дагестан в подножье гор
Над Каспием походный твой шатер.
И предок мой, что бороды не брил,
Все больше предаваясь изумленью,
Очами нетревожными следил,
Как строят порт по твоему веленью.
И на Кавказ ты прорубил окно,
Чтобы могла держава не без прока
И Запад наблюдать, и заодно
Распознавать намеренья Востока.
Ты видишься на вздыбленном коне.
Судьбой завидной было суждено
Тебе в Европу прорубить окно.
И помнит Дагестан в подножье гор
Над Каспием походный твой шатер.
И предок мой, что бороды не брил,
Все больше предаваясь изумленью,
Очами нетревожными следил,
Как строят порт по твоему веленью.
И на Кавказ ты прорубил окно,
Чтобы могла держава не без прока
И Запад наблюдать, и заодно
Распознавать намеренья Востока.
По каменистым улицам Цада,
Журча, несется вешняя вода.
Венеция моя, как ожерелье,
Тебя венчает гордая гряда.
А где родник звенит со дня творенья
И по ночам мерцает в нем звезда,
Стоит старик – он старожил селенья,
Чье слово на устах хранят года.
И видит он при этом, как поэт,
С гранитного уступа целый свет.
То мой отец, родные горы певший.
С ним верховой ли встретится иль пеший,
Ему они, как прежде, говорят:
– Салам алейкум, дорогой Гамзат!
Журча, несется вешняя вода.
Венеция моя, как ожерелье,
Тебя венчает гордая гряда.
А где родник звенит со дня творенья
И по ночам мерцает в нем звезда,
Стоит старик – он старожил селенья,
Чье слово на устах хранят года.
И видит он при этом, как поэт,
С гранитного уступа целый свет.
То мой отец, родные горы певший.
С ним верховой ли встретится иль пеший,
Ему они, как прежде, говорят:
– Салам алейкум, дорогой Гамзат!
Маршалу Рокоссовскому
Рядом с Пушкиным Лермонтов виден,
Рядом с Жуковым видишься ты,
Полководец, чей путь необыден
И прекрасные зримы черты.
Под небесным слились зодиаком
Твой терновый и лавровый знак.
Сын России, рожденный поляком,
Ты для недругов Польши – русак.
Помню Красную площадь, где рядом
Оказались былые фронты.
И приказано, чтобы парадом
В честь Победы командовал ты…
Пусть же мальчикам снится, как мне
Рокоссовский на черном коне.
Рядом с Пушкиным Лермонтов виден,
Рядом с Жуковым видишься ты,
Полководец, чей путь необыден
И прекрасные зримы черты.
Под небесным слились зодиаком
Твой терновый и лавровый знак.
Сын России, рожденный поляком,
Ты для недругов Польши – русак.
Помню Красную площадь, где рядом
Оказались былые фронты.
И приказано, чтобы парадом
В честь Победы командовал ты…
Пусть же мальчикам снится, как мне
Рокоссовский на черном коне.
Я преклоняюсь перед Западом, когда
Хожу по Лувру, слышу музыку Шопена...
Любовь Петрарки, Дон Кихота доброта,
Крылатость Гейне — жизнь без них несовершенна!
Перед Востоком преклоняюсь! Погляди
На это дивное японское трехстишье,
Там три арбы: две – сзади, третья – впереди, –
Все остальное для сокровища излишне!
Я преклоняюсь перед Севером давно!
Богатыри великих саг – несокрушимы!
Я перед Югом преклоняюсь! Пью вино
Его поэзии... Хафиз, Хайям – вершины!
Низкопоклонство это мне не повредит, –
Твердит мне Пушкин и Махмуд в горах твердит.
Хожу по Лувру, слышу музыку Шопена...
Любовь Петрарки, Дон Кихота доброта,
Крылатость Гейне — жизнь без них несовершенна!
Перед Востоком преклоняюсь! Погляди
На это дивное японское трехстишье,
Там три арбы: две – сзади, третья – впереди, –
Все остальное для сокровища излишне!
Я преклоняюсь перед Севером давно!
Богатыри великих саг – несокрушимы!
Я перед Югом преклоняюсь! Пью вино
Его поэзии... Хафиз, Хайям – вершины!
Низкопоклонство это мне не повредит, –
Твердит мне Пушкин и Махмуд в горах твердит.
Цадинская скала
Мой краток век, Цадинская скала,
Я – человек, а ты живешь веками.
Но я успел вкусить добра и зла
И боль терпел, как твой живучий камень.
Открылись мне поступки и дела,
Невиданные скалами доселе.
И кровь из ран душевных потекла,
Струясь, как влага из твоих расселин.
И ты, быть может, в странствиях была
И потому спокойна, как твердыня.
А может быть, от горного орла
Ты знаешь все, что происходит ныне?
Веками стоя как бессонный страж,
Ответь: тут был ли век такой, как наш?
Мой краток век, Цадинская скала,
Я – человек, а ты живешь веками.
Но я успел вкусить добра и зла
И боль терпел, как твой живучий камень.
Открылись мне поступки и дела,
Невиданные скалами доселе.
И кровь из ран душевных потекла,
Струясь, как влага из твоих расселин.
И ты, быть может, в странствиях была
И потому спокойна, как твердыня.
А может быть, от горного орла
Ты знаешь все, что происходит ныне?
Веками стоя как бессонный страж,
Ответь: тут был ли век такой, как наш?
Нет, я не тот, кто в грудь себя колотит –
Мол, жизнь прошла от счастья в стороне.
Был дом, и песня, и судьба на взлете,
И собственное солнце – все при мне!
И не плясал я под чужую дудку,
За свой не выдавал пандур чужой...
Лесть ненавидел, обожал я шутку
И от оваций не оглох душой.
Но, словно контуры подводного Чиркея,
(Его аварской Атлантидою зовут),
Укутанный в волнах, лежу на дне я,
А там, вверху, воспоминания плывут...
О, грандиозный флот воспоминаний!
И только щепки необузданных желаний.
Мол, жизнь прошла от счастья в стороне.
Был дом, и песня, и судьба на взлете,
И собственное солнце – все при мне!
И не плясал я под чужую дудку,
За свой не выдавал пандур чужой...
Лесть ненавидел, обожал я шутку
И от оваций не оглох душой.
Но, словно контуры подводного Чиркея,
(Его аварской Атлантидою зовут),
Укутанный в волнах, лежу на дне я,
А там, вверху, воспоминания плывут...
О, грандиозный флот воспоминаний!
И только щепки необузданных желаний.
Памяти Абуталиба Гафурова
Я навестил больного старого поэта,
Его каморка, словно мрачный гроб, тесна...
– Зачем из комнаты большой, где много света,
Ты перебрался в эту келью, старина?
И был печален голос мудрого аскета:
– Ведь я, Расул, уже в гробу одной ногой...
Хочу привыкнуть к тесноте, черней, чем эта,
К жилищу новому готовлюсь, дорогой.
Мои глаза уже не видят даже пищи,
Им виден только жизни путь во всю длину...
Знай, две зурны всегда носил я в голенище,
Одну тебе отдам, другую – чабану.
И в то мгновенье, когда пенье их сплотится,
Быть может, песня дагестанская родится.
Я навестил больного старого поэта,
Его каморка, словно мрачный гроб, тесна...
– Зачем из комнаты большой, где много света,
Ты перебрался в эту келью, старина?
И был печален голос мудрого аскета:
– Ведь я, Расул, уже в гробу одной ногой...
Хочу привыкнуть к тесноте, черней, чем эта,
К жилищу новому готовлюсь, дорогой.
Мои глаза уже не видят даже пищи,
Им виден только жизни путь во всю длину...
Знай, две зурны всегда носил я в голенище,
Одну тебе отдам, другую – чабану.
И в то мгновенье, когда пенье их сплотится,
Быть может, песня дагестанская родится.
Неизмеримы знания мои,
Неведенье мое неизмеримо.
Но меркнет перед мудростью любви
Ученый мир, когда ты мной любима.
Забыл я все, чего забыть не мог.
Тебя одну забыть не в состоянье.
Но этого мне хватит, видит бог,
Когда померкнет память на прощанье.
Что было, есть и будет? Ты одна –
Мой прошлый век, сегодняшний, грядущий.
Одна во все ты будешь времена, –
Клянусь, что я поющий, но не лгущий!
Я не завидовал, не мстил, не угнетал.
Кто о судьбе такой прекрасной не мечтал?
Неведенье мое неизмеримо.
Но меркнет перед мудростью любви
Ученый мир, когда ты мной любима.
Забыл я все, чего забыть не мог.
Тебя одну забыть не в состоянье.
Но этого мне хватит, видит бог,
Когда померкнет память на прощанье.
Что было, есть и будет? Ты одна –
Мой прошлый век, сегодняшний, грядущий.
Одна во все ты будешь времена, –
Клянусь, что я поющий, но не лгущий!
Я не завидовал, не мстил, не угнетал.
Кто о судьбе такой прекрасной не мечтал?
Да, на крутых Поэзии дорогах
Стоят посты родимого ГАИ,
Разбойным свистом останавливая многих,
Когда рулят они мелодии свои.
Один – строку мне о любви отрезал,
Другой – насквозь мне книгу проколол
И, громыхая в голосе железом,
Еще грозил составить протокол.
Свои плоды везу! Ведь я – садовник...
Клянусь, что я не обокрал колхоз!
Но урожай спешит отнять чиновник –
Мол, проезжай, не раздражай всерьез!
Ах, как свистит, налоги с нас взимая,
ГАИ в разгаре песенного мая!
Стоят посты родимого ГАИ,
Разбойным свистом останавливая многих,
Когда рулят они мелодии свои.
Один – строку мне о любви отрезал,
Другой – насквозь мне книгу проколол
И, громыхая в голосе железом,
Еще грозил составить протокол.
Свои плоды везу! Ведь я – садовник...
Клянусь, что я не обокрал колхоз!
Но урожай спешит отнять чиновник –
Мол, проезжай, не раздражай всерьез!
Ах, как свистит, налоги с нас взимая,
ГАИ в разгаре песенного мая!
Я в прах развеял письма к матери, к отцу,
К жене, и к детям, и к тебе, родной читатель...
Не потому, что мне их серость не к лицу
И после смерти их отвергнет мой издатель.
Не злопыхал я в этих письмах и не врал,
И в них немало интереснейших деталей.
Но громоздить при жизни свой мемориал
Мне так же скучно, как стоять на пьедестале.
Друзья, запомните: распахиваю всем
Я дверь той комнаты, в которой пью и ем,
Но никому и заглянуть не позволяю
Я в дверь той комнаты, в которой я сияю...
Святое таинство, светящееся дно, –
Стихам заглядывать – и то запрещено!
К жене, и к детям, и к тебе, родной читатель...
Не потому, что мне их серость не к лицу
И после смерти их отвергнет мой издатель.
Не злопыхал я в этих письмах и не врал,
И в них немало интереснейших деталей.
Но громоздить при жизни свой мемориал
Мне так же скучно, как стоять на пьедестале.
Друзья, запомните: распахиваю всем
Я дверь той комнаты, в которой пью и ем,
Но никому и заглянуть не позволяю
Я в дверь той комнаты, в которой я сияю...
Святое таинство, светящееся дно, –
Стихам заглядывать – и то запрещено!
Прутом каленым выжег очи
Певцу Саиду хан Мурсал:
– Хочу, чтоб из кромешной ночи
Бике-ханум твой взор мерцал!
Слепыми делал, между прочим,
Певцов не только хан Мурсал...
Но сквозь века их взор пророчий
Людей прозреньем потрясал.
И ты, Саид из Кочхюры,
Волнуешь нас до сей поры
Любовных песен красотой,
Их непорочностью святой.
И в небе звездами горит
Не твой ли взор, слепой Саид?
Певцу Саиду хан Мурсал:
– Хочу, чтоб из кромешной ночи
Бике-ханум твой взор мерцал!
Слепыми делал, между прочим,
Певцов не только хан Мурсал...
Но сквозь века их взор пророчий
Людей прозреньем потрясал.
И ты, Саид из Кочхюры,
Волнуешь нас до сей поры
Любовных песен красотой,
Их непорочностью святой.
И в небе звездами горит
Не твой ли взор, слепой Саид?
Молчите лучше! Спор о песне и о хлебе –
Лишь пустозвонство, лживый фарс и болтовня.
Отца клевали, а теперь клевать меня
Вы принимаетесь – ведь мой отец на небе!
А у него, признаться, не было ни дня
Без ваших коршунских нападок и долбежки:
«Мир – это хлеб, и мы съедим его до крошки,
А песней кормят не народ, а соловья».
«Нет, мне не надо сверх того, что я имею», –
Он пел и горцев ободрял струной своею.
Теперь воздвигнут он страной на пьедестал,
Теперь Гамзатом дорогим для вас он стал.
Но я ведь сын его и знаю, как завзята
Корысть, спешащая купить портрет Гамзата.
Лишь пустозвонство, лживый фарс и болтовня.
Отца клевали, а теперь клевать меня
Вы принимаетесь – ведь мой отец на небе!
А у него, признаться, не было ни дня
Без ваших коршунских нападок и долбежки:
«Мир – это хлеб, и мы съедим его до крошки,
А песней кормят не народ, а соловья».
«Нет, мне не надо сверх того, что я имею», –
Он пел и горцев ободрял струной своею.
Теперь воздвигнут он страной на пьедестал,
Теперь Гамзатом дорогим для вас он стал.
Но я ведь сын его и знаю, как завзята
Корысть, спешащая купить портрет Гамзата.
Нигде не чувствовал себя такой крупицей,
Как здесь, где высится безбрежный океан.
Его я слушал, и воздал он мне сторицей –
Легенды пел, дарил мелодий ураган...
К нему пришел я гневом, болью поделиться,
Обидой жгучей! Но, смеясь, как мальчуган,
Он говорил мне: глупо гневаться и злиться
На то, что честь твою порочит интриган.
Я ни сочувствия не вызвал, ни печали.
Он говорил: какие выстрелы звучали,
Какие бури посещали белый свет,
Но все на месте – океан, скала, поэт!
Живи, как будто все твои невзгоды –
Ошибочный прогноз бюро погоды.
Как здесь, где высится безбрежный океан.
Его я слушал, и воздал он мне сторицей –
Легенды пел, дарил мелодий ураган...
К нему пришел я гневом, болью поделиться,
Обидой жгучей! Но, смеясь, как мальчуган,
Он говорил мне: глупо гневаться и злиться
На то, что честь твою порочит интриган.
Я ни сочувствия не вызвал, ни печали.
Он говорил: какие выстрелы звучали,
Какие бури посещали белый свет,
Но все на месте – океан, скала, поэт!
Живи, как будто все твои невзгоды –
Ошибочный прогноз бюро погоды.
Ирчи Казак , вовсю летит к тебе гонец –
Мол, хочет песни оценить твои Шамхал.
Ирчи Казак, с гонцом ты прибыл во дворец,
Ты пел свое, владыка злобой полыхал!
Тебя в Сибирь сослал он, пламенный певец.
И в кандалах ты все о Каспии вздыхал...
Тоска, побег – и возвращенье наконец!
Но мост и ночь... убийцу шлет тебе Шамхал.
Когда впервые эту повесть услыхал,
Я горько плакал, о Ирчи Казак, мой брат!
Но что-то понял я потом – и хохотал:
Поэт бессмертен, хоть убей его стократ!
Я – не Ирчи Казак, ты тоже – не Шамхал,
Но я смеюсь – ведь ты меня угробить рад!
Мол, хочет песни оценить твои Шамхал.
Ирчи Казак, с гонцом ты прибыл во дворец,
Ты пел свое, владыка злобой полыхал!
Тебя в Сибирь сослал он, пламенный певец.
И в кандалах ты все о Каспии вздыхал...
Тоска, побег – и возвращенье наконец!
Но мост и ночь... убийцу шлет тебе Шамхал.
Когда впервые эту повесть услыхал,
Я горько плакал, о Ирчи Казак, мой брат!
Но что-то понял я потом – и хохотал:
Поэт бессмертен, хоть убей его стократ!
Я – не Ирчи Казак, ты тоже – не Шамхал,
Но я смеюсь – ведь ты меня угробить рад!
О, Каспий, сколько мощного бурленья
В твоих волнах, летящих предо мной!
Кто возомнил себя венцом творенья,
Тот будет смыт и поглощен волной.
Каскад имен добычей стал забвенья,
Как щепки, мусор, как поэт иной...
Бывало, плыли связками поленья,
Себя эскадрой возомнив стальной!
Забыто, смыто, хладной глубью взято...
Но суть осталась и, как мир, цела!
Волной не смыло Сулеймана и Гамзата –
Стоят над Каспием, где вечность их свела.
Откуда знать мне, пощадишь ли ты когда-то
Одну хоть песню, что судьбой моей была?
В твоих волнах, летящих предо мной!
Кто возомнил себя венцом творенья,
Тот будет смыт и поглощен волной.
Каскад имен добычей стал забвенья,
Как щепки, мусор, как поэт иной...
Бывало, плыли связками поленья,
Себя эскадрой возомнив стальной!
Забыто, смыто, хладной глубью взято...
Но суть осталась и, как мир, цела!
Волной не смыло Сулеймана и Гамзата –
Стоят над Каспием, где вечность их свела.
Откуда знать мне, пощадишь ли ты когда-то
Одну хоть песню, что судьбой моей была?
В Японии читал стихи свои
На языке родном – в огромном зале.
– О чем стихи? – спросили. – О любви.
– Еще раз прочитайте, – мне сказали.
Читал стихи аварские свои
В Америке. – О чем они? – спросили.
И я ответил честно: – О любви.
– Еще раз прочитайте, – попросили.
Знать, на любом понятны языке
Стихи о нашем счастье и тоске
И о твоей улыбке на рассвете.
И мне открылась истина одна:
Влюбленными земля населена,
А нам казалось, мы одни на свете.
На языке родном – в огромном зале.
– О чем стихи? – спросили. – О любви.
– Еще раз прочитайте, – мне сказали.
Читал стихи аварские свои
В Америке. – О чем они? – спросили.
И я ответил честно: – О любви.
– Еще раз прочитайте, – попросили.
Знать, на любом понятны языке
Стихи о нашем счастье и тоске
И о твоей улыбке на рассвете.
И мне открылась истина одна:
Влюбленными земля населена,
А нам казалось, мы одни на свете.
Из-за тебя потребовать к барьеру
Мне в жизни рок другого не судил.
В недобрый час твою предавший веру,
Я сам твоим обидчиком прослыл.
Куда от прегрешения деваться?
И вновь себя, как недруга кляня,
Один в двух лицах выхожу стреляться,
И нету секундантов у меня.
Быть раненым смертельно на дуэли
Хотел бы я, чтобы, подняв с земли,
Меня на бурке или на шинели
К твоим ногам кавказцы принесли.
И вымолвить прощение успели
Уста мои, что кровью изошли.
Мне в жизни рок другого не судил.
В недобрый час твою предавший веру,
Я сам твоим обидчиком прослыл.
Куда от прегрешения деваться?
И вновь себя, как недруга кляня,
Один в двух лицах выхожу стреляться,
И нету секундантов у меня.
Быть раненым смертельно на дуэли
Хотел бы я, чтобы, подняв с земли,
Меня на бурке или на шинели
К твоим ногам кавказцы принесли.
И вымолвить прощение успели
Уста мои, что кровью изошли.
Давай бродить в горах или степях,
Под снегом севера, под солнцем юга,
Поедем на собаках, на слонах,
Пойдем пешком, взяв за руки друг друга.
Мы реки бурные переплывем,
Пройдем леса, друг друга обнимая,
Иль крыльями своей любви взмахнем
И вдаль умчимся с журавлиной стаей.
И горы мира, села, города
Любовью нашей будут восхищаться.
Людское зло и смертная вражда
Самих себя, быть может, устыдятся.
Порой, влюбленных ланей видя взгляд,
Стрелок и тот стреляет невпопад.
Под снегом севера, под солнцем юга,
Поедем на собаках, на слонах,
Пойдем пешком, взяв за руки друг друга.
Мы реки бурные переплывем,
Пройдем леса, друг друга обнимая,
Иль крыльями своей любви взмахнем
И вдаль умчимся с журавлиной стаей.
И горы мира, села, города
Любовью нашей будут восхищаться.
Людское зло и смертная вражда
Самих себя, быть может, устыдятся.
Порой, влюбленных ланей видя взгляд,
Стрелок и тот стреляет невпопад.
Я поклялся тебя позабыть навсегда,
Сжечь проклятую страсть, чтоб развеялась в прах
Моментально, как только растают снега
И как только зажгутся фиалки в горах!
Я поклялся разлукой с вершинами гор,
С ними клялся порвать и с тобой заоодно!
Я ведь сердцу твердил, что найдется простор,
Где полюбит и счастливо будет оно.
Но как только запел кипяток снеговой
И как только фиалки зажглись на горах,
Я узнал, что сумел бы расстаться с тобой,
Только если бы сам я развеялся в прах!
Сколько раз я, обманщик, себя обману?..
Но ни разу, ни разу тебя лишь одну.
Сжечь проклятую страсть, чтоб развеялась в прах
Моментально, как только растают снега
И как только зажгутся фиалки в горах!
Я поклялся разлукой с вершинами гор,
С ними клялся порвать и с тобой заоодно!
Я ведь сердцу твердил, что найдется простор,
Где полюбит и счастливо будет оно.
Но как только запел кипяток снеговой
И как только фиалки зажглись на горах,
Я узнал, что сумел бы расстаться с тобой,
Только если бы сам я развеялся в прах!
Сколько раз я, обманщик, себя обману?..
Но ни разу, ни разу тебя лишь одну.
Еще стояло время молотьбы,
Спускались к морю овцы на кутаны,
Когда с неотвратимостью судьбы
Холодных туч нависли караваны.
И замело. Леса покрыла проседь,
Белы вершины, долы и дома.
В тылы багряной осени забросить
Смогла десант негаданно зима.
И сердце сжалось у меня от боли,
Хоть не впервые видел на веку,
Как листья клена под окном на воле
Конь белогривы топчет на скаку.
И я похож на скошенное поле,
Где сноп ржаной забыли на току.
Спускались к морю овцы на кутаны,
Когда с неотвратимостью судьбы
Холодных туч нависли караваны.
И замело. Леса покрыла проседь,
Белы вершины, долы и дома.
В тылы багряной осени забросить
Смогла десант негаданно зима.
И сердце сжалось у меня от боли,
Хоть не впервые видел на веку,
Как листья клена под окном на воле
Конь белогривы топчет на скаку.
И я похож на скошенное поле,
Где сноп ржаной забыли на току.
На горной вершине стою в Дагестане,
На небо смотрю я, и кажется мне,
Что рядом мужчины на синей поляне
Овец белошерстных стригут в вышине.
Руну на ветру поклубиться охота,
Горянки на спинах, хоть путь не полог,
Несут его плавно, и капельки пота
На камни ущелья упали со щек.
Я вижу под гулким провалом теснины
Утесы, похожие на чабанов.
В туман облаченные, словно в овчины,
Пасут они стадо седых валунов.
Их шубы порвутся. Так поздно иль рано,
Открывшись, заноет в груди моей рана.
На небо смотрю я, и кажется мне,
Что рядом мужчины на синей поляне
Овец белошерстных стригут в вышине.
Руну на ветру поклубиться охота,
Горянки на спинах, хоть путь не полог,
Несут его плавно, и капельки пота
На камни ущелья упали со щек.
Я вижу под гулким провалом теснины
Утесы, похожие на чабанов.
В туман облаченные, словно в овчины,
Пасут они стадо седых валунов.
Их шубы порвутся. Так поздно иль рано,
Открывшись, заноет в груди моей рана.
Числю первым сокровищем горы.
Вознесенный вершинами гор,
Не пустые вести разговоры
Я обязан – их парламентер.
А второй сокровище – Каспий,
Он украсит любую казну.
И в слова, что чеканю не наспех,
Мне вложить бы его глубину.
Составляют сокровище третье
Лес и поле, река и ручей,
Алычи захмелевшей соцветья,
Пурпур утра и звезды ночей.
Время – в каждое тысячелетье –
При сокровищах лишь казначей.
Вознесенный вершинами гор,
Не пустые вести разговоры
Я обязан – их парламентер.
А второй сокровище – Каспий,
Он украсит любую казну.
И в слова, что чеканю не наспех,
Мне вложить бы его глубину.
Составляют сокровище третье
Лес и поле, река и ручей,
Алычи захмелевшей соцветья,
Пурпур утра и звезды ночей.
Время – в каждое тысячелетье –
При сокровищах лишь казначей.
– Скажи «люблю», – меня просили в Риме –
На языке народа своего. –
И я назвал твое простое имя,
И повторили все вокруг его.
– Как называют ту, что всех любимей?
Как по-аварски «жизнь» и «божество»? –
И я назвал твое простое имя,
И повторили все вокруг его.
Сказали мне: – Не может быть такого,
Чтоб было в языке одно лишь слово.
Ужель язык так необычен твой?
И я, уже не в силах спорить с ними,
Ответил, что одно простое имя
Мне заменяет весь язык родной.
На языке народа своего. –
И я назвал твое простое имя,
И повторили все вокруг его.
– Как называют ту, что всех любимей?
Как по-аварски «жизнь» и «божество»? –
И я назвал твое простое имя,
И повторили все вокруг его.
Сказали мне: – Не может быть такого,
Чтоб было в языке одно лишь слово.
Ужель язык так необычен твой?
И я, уже не в силах спорить с ними,
Ответил, что одно простое имя
Мне заменяет весь язык родной.
Нет, ты не сон, не забытье,
Не чудной сказки свет туманный –
Страданье вечное мое,
Незаживающая рана.
Я буду глух и слеп к обману,
Но только пусть лицо твое
Мне озаряет постоянно
Дорогу, дни, житье-бытье.
Чтобы с тобою рядом быть,
Готов я песни все забыть,
Вспять повернуть земные реки,
Но понимаю я, скорбя,
Что на земле нашел тебя,
Чтоб тут же потерять навеки.
Не чудной сказки свет туманный –
Страданье вечное мое,
Незаживающая рана.
Я буду глух и слеп к обману,
Но только пусть лицо твое
Мне озаряет постоянно
Дорогу, дни, житье-бытье.
Чтобы с тобою рядом быть,
Готов я песни все забыть,
Вспять повернуть земные реки,
Но понимаю я, скорбя,
Что на земле нашел тебя,
Чтоб тут же потерять навеки.
Когда покинет мир любой из нас,
Не стает лед на каменистой круче.
Но без тебя сверкающий алмаз
Вершины снежной сплошь закроют тучи.
Пучину не волнует наша участь.
Ей дела нет до каждого из нас.
Но без тебя затянется тотчас
Песком и тиной Каспий мой могучий.
Приходим в жизнь или уходим в вечность,
Не вспыхнет и не скатится звезда.
И как до нас, то грустно, то беспечно,
Споют и после. Только и тогда,
Коль будет песнь не о любви пропета,
Ее сочтут причудою поэта.
Не стает лед на каменистой круче.
Но без тебя сверкающий алмаз
Вершины снежной сплошь закроют тучи.
Пучину не волнует наша участь.
Ей дела нет до каждого из нас.
Но без тебя затянется тотчас
Песком и тиной Каспий мой могучий.
Приходим в жизнь или уходим в вечность,
Не вспыхнет и не скатится звезда.
И как до нас, то грустно, то беспечно,
Споют и после. Только и тогда,
Коль будет песнь не о любви пропета,
Ее сочтут причудою поэта.
В стране недолгой молодости мне
Друзья назвали имя недотроги,
И вздрогнул я. Но плавно, как во сне,
Ложился снег на горные отроги.
Пришли иные думы и тревоги.
И я слагал сонеты в тишине.
Но вдруг тебя я встретил у дороги
И с той поры пылаю, как в огне.
Летят года, как всадник на коне,
Но дальше путь мой от весны к весне,
Бледнее радость, горше неудача.
Буза прозрачна сверху, хмель – на дне.
Огонь любви, что был дарован мне,
Под старость разгорается все жарче.
Друзья назвали имя недотроги,
И вздрогнул я. Но плавно, как во сне,
Ложился снег на горные отроги.
Пришли иные думы и тревоги.
И я слагал сонеты в тишине.
Но вдруг тебя я встретил у дороги
И с той поры пылаю, как в огне.
Летят года, как всадник на коне,
Но дальше путь мой от весны к весне,
Бледнее радость, горше неудача.
Буза прозрачна сверху, хмель – на дне.
Огонь любви, что был дарован мне,
Под старость разгорается все жарче.
Отвесные скалы вздымаются голо,
Но памятных битв ореола уж нет.
Хунзахская крепость. Начальная школа,
В которой моих пролетело семь лет.
И помню: однажды к запретным пределам
Метнулся душой и по черному белым
«Тебя я люблю!» - написал на доске.
И крылья явились к нестертой строке.
И всласть хохотали мальчишки аула,
И строго отец произнес: «Вертопрах!»,
А мама с тревожной печалью вздохнула:
«Знай, этим не шутят, сыночек, в горах».
«Тебя я люблю!» - не лукавя с тех пор,
Пишу всякий раз, по обычаю гор.
Но памятных битв ореола уж нет.
Хунзахская крепость. Начальная школа,
В которой моих пролетело семь лет.
И помню: однажды к запретным пределам
Метнулся душой и по черному белым
«Тебя я люблю!» - написал на доске.
И крылья явились к нестертой строке.
И всласть хохотали мальчишки аула,
И строго отец произнес: «Вертопрах!»,
А мама с тревожной печалью вздохнула:
«Знай, этим не шутят, сыночек, в горах».
«Тебя я люблю!» - не лукавя с тех пор,
Пишу всякий раз, по обычаю гор.
Я в космосе далеком побывал,
Летя во мгле меж звездных караванов:
Мои стихи взял в космос Севастьянов.
Так высоко еще я не взлетал.
О родина, признанием в любви
Был мой полет, в твою вошедший славу.
И видел я, что женщины твои
Соперницами звезд слывут по праву.
Обнять весь мир смогла душа моя,
С аулом отчим на челе вершины.
Гарсии Лорки видел землю я
И вспоминал о детях Палестины.
И радовался в черной вышине,
Что Патимат вздыхает обо мне.
Летя во мгле меж звездных караванов:
Мои стихи взял в космос Севастьянов.
Так высоко еще я не взлетал.
О родина, признанием в любви
Был мой полет, в твою вошедший славу.
И видел я, что женщины твои
Соперницами звезд слывут по праву.
Обнять весь мир смогла душа моя,
С аулом отчим на челе вершины.
Гарсии Лорки видел землю я
И вспоминал о детях Палестины.
И радовался в черной вышине,
Что Патимат вздыхает обо мне.
Россия, ты когда-то не с цветами
Нагрянула в пределы наших гор.
Поныне скалы схожи со щитами,
И в них гнездятся пули до сих пор.
И на Кавказ поручиком не ты ли
Отправила поэта для того,
Чтобы в бою чеченцы зарубили
Или аварец застрелил его?
Но был убит он не слугой Корана,
А подданным твоим он был убит…
Мне снится сон в долине Дагестана,
Что я поэта павшего мюрид.
В моей груди его пылает рана,
И плачу я. А выстрел все гремит.
Нагрянула в пределы наших гор.
Поныне скалы схожи со щитами,
И в них гнездятся пули до сих пор.
И на Кавказ поручиком не ты ли
Отправила поэта для того,
Чтобы в бою чеченцы зарубили
Или аварец застрелил его?
Но был убит он не слугой Корана,
А подданным твоим он был убит…
Мне снится сон в долине Дагестана,
Что я поэта павшего мюрид.
В моей груди его пылает рана,
И плачу я. А выстрел все гремит.