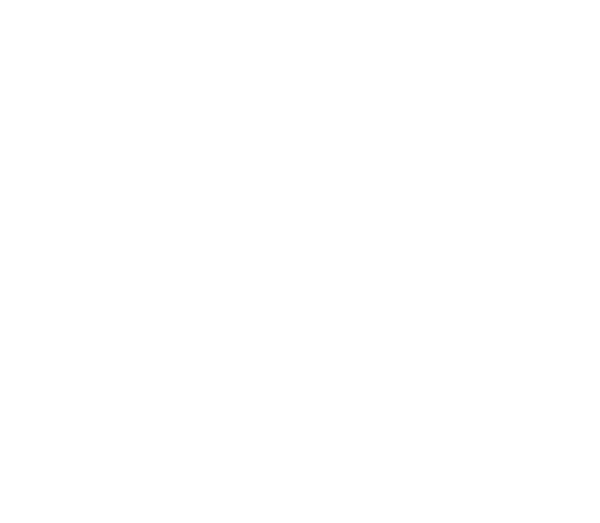Переводы Марины Ахмедовой-Колюбакиной
Стихи последних лет
Расул Гамзатов
Памятник
Я памятник себе воздвиг из песен –
Он не высок тот камень на плато,
Но если горный край мой не исчезнет,
То не разрушит памятник никто.
Ни ветер, что в горах по-волчьи воет,
Ни дождь, ни снег, ни августовский зной.
При жизни горы были мне судьбою,
Когда умру, я стану их судьбой.
Поддерживать огонь мой не устанут
И в честь мою еще немало лет
Младенцев нарекать горянки станут
В надежде, что появится поэт.
И мое имя, как речную гальку,
Не отшлифует времени поток.
И со стихов моих не снимут кальку,
Ведь тайна их останется меж строк.
Когда уйду от вас дорогой дальней
В тот край, откуда возвращенья нет,
То журавли, летящие печально,
Напоминать вам будут обо мне.
Я разным был, как время было разным –
Как угол, острым, гладким, как овал…
И все же никогда холодный разум
Огня души моей не затмевал.
Однажды мной зажженная лампада
Еще согреет сердце не одно,
И только упрекать меня не надо
В том, что мне было свыше не дано.
Я в жизни не геройствовал лукаво,
Но с подлостью я честно воевал
И горской лирой мировую славу
Аулу неизвестному снискал.
Пусть гордый финн не вспомнит мое имя,
Не упомянет пусть меня калмык,
Но горцы будут с песнями моими
Веками жить, храня родной язык.
На карте, что поэзией зовется,
Мой остров не исчезнет в грозной мгле.
И будут петь меня, пока поется
Хоть одному аварцу на земле.
Я памятник себе воздвиг из песен –
Он не высок тот камень на плато,
Но если горный край мой не исчезнет,
То не разрушит памятник никто.
Ни ветер, что в горах по-волчьи воет,
Ни дождь, ни снег, ни августовский зной.
При жизни горы были мне судьбою,
Когда умру, я стану их судьбой.
Поддерживать огонь мой не устанут
И в честь мою еще немало лет
Младенцев нарекать горянки станут
В надежде, что появится поэт.
И мое имя, как речную гальку,
Не отшлифует времени поток.
И со стихов моих не снимут кальку,
Ведь тайна их останется меж строк.
Когда уйду от вас дорогой дальней
В тот край, откуда возвращенья нет,
То журавли, летящие печально,
Напоминать вам будут обо мне.
Я разным был, как время было разным –
Как угол, острым, гладким, как овал…
И все же никогда холодный разум
Огня души моей не затмевал.
Однажды мной зажженная лампада
Еще согреет сердце не одно,
И только упрекать меня не надо
В том, что мне было свыше не дано.
Я в жизни не геройствовал лукаво,
Но с подлостью я честно воевал
И горской лирой мировую славу
Аулу неизвестному снискал.
Пусть гордый финн не вспомнит мое имя,
Не упомянет пусть меня калмык,
Но горцы будут с песнями моими
Веками жить, храня родной язык.
На карте, что поэзией зовется,
Мой остров не исчезнет в грозной мгле.
И будут петь меня, пока поется
Хоть одному аварцу на земле.
Покаяние
Ты прости меня, солнце закатное,
Что на склоне желаний моих
Меня больше, как прежде, не радует
Отблеск этих лучей золотых.
Ты прости, пожелтевшее дерево...
На мосту между ночью и днем
Ничему уже больше не верю я,
Не жалею уже ни о чем.
Ты прости меня, горная родина,
Что тебе я служил не сполна.
Миллионы дорог мною пройдены,
А нужна была только одна.
Тот цветок, что сорвал на вершине я,
У подножья увял уж почти...
Путь мой долгий отмечен ошибками,
Но другого не будет пути.
Колесо мое вниз уже катится,
Где зияет, грозя, пустота,
И в тумане от глаз моих прячется
Моей робкой надежды звезда.
Но не стану просить я Всевышнего
Мои годы земные продлить.
Много в жизни наделал я лишнего —
Ничего уже не изменить.
Где те четки, что маму тревожили
И печалили вечно отца?
Столько лет пересчитано, прожито,
Все равно нет у четок конца.
Свой намаз совершаю последний я,
И ладони мои, как шатер.
Всемогущий Аллах, на колени я
Ни пред кем не вставал до сих пор.
Ты прости меня, время безумное,
Что и мне не хватало ума...
За меня чьи-то головы думали,
Мои строчки прессуя в тома.
И шайтанская сила незримая
По бумаге водила порой
Мою руку неисповедимую,
Искривляя прямое перо.
Ты прости меня, солнце закатное,
Что на склоне желаний моих
Меня больше, как прежде, не радует
Отблеск этих лучей золотых.
Ты прости меня, солнце закатное,
Что на склоне желаний моих
Меня больше, как прежде, не радует
Отблеск этих лучей золотых.
Ты прости, пожелтевшее дерево...
На мосту между ночью и днем
Ничему уже больше не верю я,
Не жалею уже ни о чем.
Ты прости меня, горная родина,
Что тебе я служил не сполна.
Миллионы дорог мною пройдены,
А нужна была только одна.
Тот цветок, что сорвал на вершине я,
У подножья увял уж почти...
Путь мой долгий отмечен ошибками,
Но другого не будет пути.
Колесо мое вниз уже катится,
Где зияет, грозя, пустота,
И в тумане от глаз моих прячется
Моей робкой надежды звезда.
Но не стану просить я Всевышнего
Мои годы земные продлить.
Много в жизни наделал я лишнего —
Ничего уже не изменить.
Где те четки, что маму тревожили
И печалили вечно отца?
Столько лет пересчитано, прожито,
Все равно нет у четок конца.
Свой намаз совершаю последний я,
И ладони мои, как шатер.
Всемогущий Аллах, на колени я
Ни пред кем не вставал до сих пор.
Ты прости меня, время безумное,
Что и мне не хватало ума...
За меня чьи-то головы думали,
Мои строчки прессуя в тома.
И шайтанская сила незримая
По бумаге водила порой
Мою руку неисповедимую,
Искривляя прямое перо.
Ты прости меня, солнце закатное,
Что на склоне желаний моих
Меня больше, как прежде, не радует
Отблеск этих лучей золотых.
Я памятник себе воздвиг из песен –
Он не высок тот камень на плато,
Но если горный край мой не исчезнет,
То не разрушит памятник никто.
Он не высок тот камень на плато,
Но если горный край мой не исчезнет,
То не разрушит памятник никто.
Белые птицы в синем небе
В синем небе знакомые птицы
Острым клином куда-то летят…
Ничего уже не повторится,
Ничего не вернется назад.
До свиданья, мои дорогие,
Я не знаю, дождусь ли вас вновь.
Уже зимние ветры седые
Остудили былую любовь.
И один я остался в раздумье
На родимом хунзахском плато…
Скоро ль ветер смертельный подует,
Мне, родные, не скажет никто?
Если вдруг вы назад возвратитесь
В эти горы в положенный час,
А меня не найдете – простите
Вы певца, воспевавшего вас.
Этой осенью рано упала
Золотая листва с тополей.
Слишком много охотников стало
В этом веке на честных людей.
В синем небе прекрасные птицы
На прощанье печально трубят…
Ничего уже не повторится,
Ничего не вернется назад.
Вам счастливой желая дороги,
Я прошу об услуге одной –
Покружитесь хотя бы немного
Вы над крышею женщины той
Что меня столько лет ожидала
У горящего ночью окна,
Что сама уж, наверное, стала
Белоснежною птицей она.
Красным клювом в окно постучитесь,
Если там не найдете меня,
Навсегда в синеве растворитесь
Золотого осеннего дня.
Белоснежные верные птицы,
Ничего уже не повторится…
В синем небе знакомые птицы
Острым клином куда-то летят…
Ничего уже не повторится,
Ничего не вернется назад.
До свиданья, мои дорогие,
Я не знаю, дождусь ли вас вновь.
Уже зимние ветры седые
Остудили былую любовь.
И один я остался в раздумье
На родимом хунзахском плато…
Скоро ль ветер смертельный подует,
Мне, родные, не скажет никто?
Если вдруг вы назад возвратитесь
В эти горы в положенный час,
А меня не найдете – простите
Вы певца, воспевавшего вас.
Этой осенью рано упала
Золотая листва с тополей.
Слишком много охотников стало
В этом веке на честных людей.
В синем небе прекрасные птицы
На прощанье печально трубят…
Ничего уже не повторится,
Ничего не вернется назад.
Вам счастливой желая дороги,
Я прошу об услуге одной –
Покружитесь хотя бы немного
Вы над крышею женщины той
Что меня столько лет ожидала
У горящего ночью окна,
Что сама уж, наверное, стала
Белоснежною птицей она.
Красным клювом в окно постучитесь,
Если там не найдете меня,
Навсегда в синеве растворитесь
Золотого осеннего дня.
Белоснежные верные птицы,
Ничего уже не повторится…
Лишь два упрека в сердце затаил...
Лишь два упрека в сердце затаил
Я к Шамилю, не знающему страха.
Зачем убить он ханшу допустил
Владетельницу древнего Хунзаха?
Зачем он детской кровью Булача
Позволил обагрить мужскую руку,
Героя сердце славой палача
Зачем обрек на тягостную муку?
К Хочбару тоже предъявляю иск –
Зачем в огонь с детьми он прыгнул вместе?
Ведь месть отцу, как и смертельный риск,
Не могут быть значительнее чести.
Ребенок хана, как и бедняка –
Всевышнего невинное созданье…
А глупое геройство – чепуха,
Что помрачает ясное сознанье.
Давайте же беречь своих детей
От злобы и коварного возмездья.
Ведь на закате наших с вами дней
Они взойдут, как новые созвездья.
Лишь два упрека в сердце затаил
Я к Шамилю, не знающему страха.
Зачем убить он ханшу допустил
Владетельницу древнего Хунзаха?
Зачем он детской кровью Булача
Позволил обагрить мужскую руку,
Героя сердце славой палача
Зачем обрек на тягостную муку?
К Хочбару тоже предъявляю иск –
Зачем в огонь с детьми он прыгнул вместе?
Ведь месть отцу, как и смертельный риск,
Не могут быть значительнее чести.
Ребенок хана, как и бедняка –
Всевышнего невинное созданье…
А глупое геройство – чепуха,
Что помрачает ясное сознанье.
Давайте же беречь своих детей
От злобы и коварного возмездья.
Ведь на закате наших с вами дней
Они взойдут, как новые созвездья.
Плач по Хузу
Солдат, в балашовской земле погребенный,
Недобрую весть я тебе принесу:
Померк нынче полдень июньский зеленый –
Не стало твоей драгоценной Хузу.
Полвека надеясь, что ты воротишься,
Она берегла свою честь и красу.
И вдруг, словно перед грозою затишье –
Закрыла навек свои очи Хузу.
Она каждый день за тебя лишь молилась,
Босыми ногами сбивая росу.
И только надежда на Божию милость
Питала разбитое сердце Хузу.
Сестра горьких дум, дочь великой печали,
Твой образ, как будто лампаду несу –
Стоишь на плато ты в своей черной шали,
Застывшая, как изваянье, Хузу.
Богиня терпенья и верности женской,
Достойно принявшая жизни грозу,
Хранительница вдовьей доли вселенской,
Ты скрылась, как за гору солнце, Хузу.
Так в доме аульском теперь одиноко,
Что не удержать мне скупую слезу.
Уже никогда у родного порога
Не встретит меня на рассвете Хузу.
На кладбище, чувством печали влекомый,
Я скромный цветок полевой отнесу…
Как странно прочесть на плите незнакомой
Мне имя твое дорогое, Хузу.
Быть может, к Пати ты своей поспешила,
К дочурке, что в райском гуляет лесу…
Теперь будут рядышком ваши могилы
И вы не расстанетесь больше, Хузу.
И старший мой брат, не пришедший из боя,
Которого я от забвенья спасу,
Наверное, тоже обнялся с тобою
В том мире, где войн не бывает, Хузу.
Но как примириться мне с этой потерей,
Как снова вернуться в родительский дом,
Когда не откроет уже больше двери
Мне женщина тихая, жившая в нем?
Солдат, в балашовской земле погребенный,
Недобрую весть я тебе принесу:
Померк нынче полдень июньский зеленый –
Не стало твоей драгоценной Хузу.
Полвека надеясь, что ты воротишься,
Она берегла свою честь и красу.
И вдруг, словно перед грозою затишье –
Закрыла навек свои очи Хузу.
Она каждый день за тебя лишь молилась,
Босыми ногами сбивая росу.
И только надежда на Божию милость
Питала разбитое сердце Хузу.
Сестра горьких дум, дочь великой печали,
Твой образ, как будто лампаду несу –
Стоишь на плато ты в своей черной шали,
Застывшая, как изваянье, Хузу.
Богиня терпенья и верности женской,
Достойно принявшая жизни грозу,
Хранительница вдовьей доли вселенской,
Ты скрылась, как за гору солнце, Хузу.
Так в доме аульском теперь одиноко,
Что не удержать мне скупую слезу.
Уже никогда у родного порога
Не встретит меня на рассвете Хузу.
На кладбище, чувством печали влекомый,
Я скромный цветок полевой отнесу…
Как странно прочесть на плите незнакомой
Мне имя твое дорогое, Хузу.
Быть может, к Пати ты своей поспешила,
К дочурке, что в райском гуляет лесу…
Теперь будут рядышком ваши могилы
И вы не расстанетесь больше, Хузу.
И старший мой брат, не пришедший из боя,
Которого я от забвенья спасу,
Наверное, тоже обнялся с тобою
В том мире, где войн не бывает, Хузу.
Но как примириться мне с этой потерей,
Как снова вернуться в родительский дом,
Когда не откроет уже больше двери
Мне женщина тихая, жившая в нем?
Берегите детей
Ничего нет печальней июня того,
Что сгорел, как дрова в очаге…
Не забуду, как руку отца моего
Я сжимал на прощанье в руке.
Перед тем, как навеки закрылись глаза,
Что полны были смертной тоски,
Он привстал на мгновенье и тихо сказал
Напоследок: «Детей береги!».
Восходящее солнце и в небе звезда,
И могучий поток и ручей,
Повторяли, как эхо, за ним сквозь года
Каждый день: «Берегите детей!».
Когда мамы не стало, я был далеко,
В круговерти событий и дел.
Но стоит у меня до сих пор в горле ком,
Что проститься я с ней не успел.
И когда я склоняюсь над скорбной плитой,
Слезы горя смахнув со щеки,
Мне как будто бы чудится голос родной:
«Мой сыночек, детей береги!».
В грохотании грома я слышу его,
В суматохе стремительных дней…
Для меня нет важней завещанья того –
Тихих слов: «Берегите детей!».
Написал бы их на колыбелях земных,
Их на ножнах бы я начертал…
Чтоб с зари до заката читали вы их,
Отложив смертоносный кинжал.
Много песен на свете, но только одна,
Повторяется в жизни моей.
Не смолкает на горском пандуре струна
Каждый час: «Берегите детей!».
Видел я, как орел, беззащитных птенцов
Учит крылья свои расправлять,
Если б он научил нерадивых отцов
Так с потомством своим поступать.
Этот мир, как открытая рана в груди,
Не зажить никогда уже ей.
Но твержу я, как будто молитву в пути
Каждый миг: «Берегите детей!».
Всех, творящих намазы, прошу об одном –
Прихожан всех на свете церквей:
«Позабудьте про распри, храните свой дом
И своих беззащитных детей!»
От болезней, от мести, от страшной войны,
От пустых сумасбродных идей.
И кричать мы всем миром сегодня должны
Лишь одно: «Берегите детей!»
Ничего нет печальней июня того,
Что сгорел, как дрова в очаге…
Не забуду, как руку отца моего
Я сжимал на прощанье в руке.
Перед тем, как навеки закрылись глаза,
Что полны были смертной тоски,
Он привстал на мгновенье и тихо сказал
Напоследок: «Детей береги!».
Восходящее солнце и в небе звезда,
И могучий поток и ручей,
Повторяли, как эхо, за ним сквозь года
Каждый день: «Берегите детей!».
Когда мамы не стало, я был далеко,
В круговерти событий и дел.
Но стоит у меня до сих пор в горле ком,
Что проститься я с ней не успел.
И когда я склоняюсь над скорбной плитой,
Слезы горя смахнув со щеки,
Мне как будто бы чудится голос родной:
«Мой сыночек, детей береги!».
В грохотании грома я слышу его,
В суматохе стремительных дней…
Для меня нет важней завещанья того –
Тихих слов: «Берегите детей!».
Написал бы их на колыбелях земных,
Их на ножнах бы я начертал…
Чтоб с зари до заката читали вы их,
Отложив смертоносный кинжал.
Много песен на свете, но только одна,
Повторяется в жизни моей.
Не смолкает на горском пандуре струна
Каждый час: «Берегите детей!».
Видел я, как орел, беззащитных птенцов
Учит крылья свои расправлять,
Если б он научил нерадивых отцов
Так с потомством своим поступать.
Этот мир, как открытая рана в груди,
Не зажить никогда уже ей.
Но твержу я, как будто молитву в пути
Каждый миг: «Берегите детей!».
Всех, творящих намазы, прошу об одном –
Прихожан всех на свете церквей:
«Позабудьте про распри, храните свой дом
И своих беззащитных детей!»
От болезней, от мести, от страшной войны,
От пустых сумасбродных идей.
И кричать мы всем миром сегодня должны
Лишь одно: «Берегите детей!»
Много песен на свете, но только одна,
Повторяется в жизни моей.
Не смолкает на горском пандуре струна
Каждый час: «Берегите детей!».
Повторяется в жизни моей.
Не смолкает на горском пандуре струна
Каждый час: «Берегите детей!».
Мне казалось...
Мне казалось, осенней порою,
Когда падают листья с ветвей,
Мои годы уносит с собою
Белокрылый косяк журавлей.
И надежды мои и желанья
Вместе с ним улетают навек,
Лишь кружат надо мной на прощанье,
Невесомые перья, как снег.
И любовь моя с клином усталым
Улетела уже навсегда,
В глубине мирозданья пропала,
Как упавшая с неба звезда.
И весна моя, что зеленела,
Мне казалось, всего лишь вчера,
Стала, как голова моя, белой,
Поседев, как зимою гора.
И мой свадебный март, мне казалось,
Лишь вчера в нашем доме гремел…
А теперь в сердце только усталость
От ненужных событий и дел.
Ураганный врывается ветер,
Мои двери срывая с петель,
И свечу, что едва уже светит,
Скоро злая задует метель.
А когда я был мальчиком горским,
Мне казалось, что вечно со мной
Будет рядом друзей моих горстка,
Где готов был на подвиг любой.
Но теперь никого не осталось…
Где бинокль такой отыскать,
Чтобы детства хоть самую малость
Напоследок в него увидать?
Где друзья мои?.. Этих далече,
На вершину судьба занесла.
Те, пороками жизнь искалечив,
В ее бездне сгорают дотла.
Ну, а третьи на сельском кладбище
Под могильными плитами спят…
Только ветер пронзительный свищет
Там, где высятся стелы их в ряд.
И теперь в одиночестве гордом
Озираюсь я по сторонам…
Косяком легкокрылые годы
Улетели к иным берегам.
Все равно до последнего вздоха
Буду верен их памяти я,
Хоть над верностью этой эпоха
Так недобро смеется, друзья.
Мне казалось, осенней порою,
Когда падают листья с ветвей,
Мои годы уносит с собою
Белокрылый косяк журавлей.
И надежды мои и желанья
Вместе с ним улетают навек,
Лишь кружат надо мной на прощанье,
Невесомые перья, как снег.
И любовь моя с клином усталым
Улетела уже навсегда,
В глубине мирозданья пропала,
Как упавшая с неба звезда.
И весна моя, что зеленела,
Мне казалось, всего лишь вчера,
Стала, как голова моя, белой,
Поседев, как зимою гора.
И мой свадебный март, мне казалось,
Лишь вчера в нашем доме гремел…
А теперь в сердце только усталость
От ненужных событий и дел.
Ураганный врывается ветер,
Мои двери срывая с петель,
И свечу, что едва уже светит,
Скоро злая задует метель.
А когда я был мальчиком горским,
Мне казалось, что вечно со мной
Будет рядом друзей моих горстка,
Где готов был на подвиг любой.
Но теперь никого не осталось…
Где бинокль такой отыскать,
Чтобы детства хоть самую малость
Напоследок в него увидать?
Где друзья мои?.. Этих далече,
На вершину судьба занесла.
Те, пороками жизнь искалечив,
В ее бездне сгорают дотла.
Ну, а третьи на сельском кладбище
Под могильными плитами спят…
Только ветер пронзительный свищет
Там, где высятся стелы их в ряд.
И теперь в одиночестве гордом
Озираюсь я по сторонам…
Косяком легкокрылые годы
Улетели к иным берегам.
Все равно до последнего вздоха
Буду верен их памяти я,
Хоть над верностью этой эпоха
Так недобро смеется, друзья.
Поезда уходят и уходят
Поезда уходят и уходят,
Я машу с перрона им рукой.
Дождь ли, снег ли – при любой погоде
Вечный путь они продолжат свой.
Но к конечной станции несется
Поезд тот, в котором еду я,
И уже с судьбой не разминется
Старость наступившая моя.
А в окне мелькают и мелькают,
Как в калейдоскопе, города,
И над ними журавлиной стаей
Улетают ввысь мои года.
Словно шерстью чёсаной, туманом
Затянуло призрачную даль –
Наступило время шарлатанов
И заполонило магистраль.
Слух мой режет пар колесных скрежет,
И вагоны старые скрипят,
И на полустанках здесь все реже
Фонари сигнальные горят.
Что же ждет меня за поворотом,
Ожидает что мою страну?..
Время, вот и стало ты банкротом,
Снова у безвременья в плену.
Лишь любовь моя, что так прекрасна,
Как ее печальные глаза,
Переменам этим неподвластна,
Ведь она уже на небесах.
Но под стук колес я вспоминаю
Дорогие нежные черты –
То цветы за окнами мелькают,
То летят снежинки с высоты.
То рассвет я в поезде встречаю,
То гляжу в ночную темноту,
И однажды, сам не замечая,
На последней станции сойду.
Поезда уходят и уходят,
Я машу с перрона им рукой.
Дождь ли, снег ли – при любой погоде
Вечный путь они продолжат свой.
Но к конечной станции несется
Поезд тот, в котором еду я,
И уже с судьбой не разминется
Старость наступившая моя.
А в окне мелькают и мелькают,
Как в калейдоскопе, города,
И над ними журавлиной стаей
Улетают ввысь мои года.
Словно шерстью чёсаной, туманом
Затянуло призрачную даль –
Наступило время шарлатанов
И заполонило магистраль.
Слух мой режет пар колесных скрежет,
И вагоны старые скрипят,
И на полустанках здесь все реже
Фонари сигнальные горят.
Что же ждет меня за поворотом,
Ожидает что мою страну?..
Время, вот и стало ты банкротом,
Снова у безвременья в плену.
Лишь любовь моя, что так прекрасна,
Как ее печальные глаза,
Переменам этим неподвластна,
Ведь она уже на небесах.
Но под стук колес я вспоминаю
Дорогие нежные черты –
То цветы за окнами мелькают,
То летят снежинки с высоты.
То рассвет я в поезде встречаю,
То гляжу в ночную темноту,
И однажды, сам не замечая,
На последней станции сойду.
Меня просили
Меня просили верным быть горам,
И где б я ни был, я следил за ними.
Душа стремилась в горы, словно в храм,
Где на скале я высек милой имя.
В те времена я часто был в пути,
Я странствовал по джунглям и пустыням,
Считая своим долгом привезти
Оттуда песни, что пою доныне.
И, слушая мелодии мои,
Из странствий привезенные в подарок,
На миг смолкали горные ручьи
И голоса приветливых аварок.
Я песни эти подарил горам,
И видел, как они довольны даром.
А значит, по заморским городам
Я так подолгу странствовал недаром.
Меня просили, чтоб не забывал
Родной язык я вдалеке от дома,
И я хранил бесценные слова,
Как будто клад, средь речи незнакомой.
Мне нравились другие языки,
Я вникнуть в их мелодию пытался.
Но сердце изнывало от тоски,
Когда в чужой стране я оставался.
И я уже считал по пальцам дни,
Мечтая в горы возвратиться снова,
Ведь речь мою гортанную они,
Как братья, понимали с полуслова.
И в дар спокойным нашим родникам
Привез я грозный рокот океана,
Чтобы из них текущая река
От ярости и страсти стала пьяной.
Мне завещали Дагестан любить,
Отец и мать, и прадедов могилы…
И стая журавлей, как будто нить,
Меня навеки с ним соединила.
Но все ж сильнее всех на свете уз
Меня к нему объятья привязали
Той женщины, с которой мой союз
Полвека длился и был крепче стали.
Красавиц многих в мире я ласкал,
Подолгу жил я в чужедальних странах,
Покуда к сердцу моему тоска
Не подступала, ноя, будто рана.
И вновь я возвращался в свой аул,
Твой блудный сын, твой мальчик непослушный,
И ты, как мать, меня не упрекнул,
Ни в чем, мой Дагестан великодушный!
Меня просили верным быть горам,
И где б я ни был, я следил за ними.
Душа стремилась в горы, словно в храм,
Где на скале я высек милой имя.
В те времена я часто был в пути,
Я странствовал по джунглям и пустыням,
Считая своим долгом привезти
Оттуда песни, что пою доныне.
И, слушая мелодии мои,
Из странствий привезенные в подарок,
На миг смолкали горные ручьи
И голоса приветливых аварок.
Я песни эти подарил горам,
И видел, как они довольны даром.
А значит, по заморским городам
Я так подолгу странствовал недаром.
Меня просили, чтоб не забывал
Родной язык я вдалеке от дома,
И я хранил бесценные слова,
Как будто клад, средь речи незнакомой.
Мне нравились другие языки,
Я вникнуть в их мелодию пытался.
Но сердце изнывало от тоски,
Когда в чужой стране я оставался.
И я уже считал по пальцам дни,
Мечтая в горы возвратиться снова,
Ведь речь мою гортанную они,
Как братья, понимали с полуслова.
И в дар спокойным нашим родникам
Привез я грозный рокот океана,
Чтобы из них текущая река
От ярости и страсти стала пьяной.
Мне завещали Дагестан любить,
Отец и мать, и прадедов могилы…
И стая журавлей, как будто нить,
Меня навеки с ним соединила.
Но все ж сильнее всех на свете уз
Меня к нему объятья привязали
Той женщины, с которой мой союз
Полвека длился и был крепче стали.
Красавиц многих в мире я ласкал,
Подолгу жил я в чужедальних странах,
Покуда к сердцу моему тоска
Не подступала, ноя, будто рана.
И вновь я возвращался в свой аул,
Твой блудный сын, твой мальчик непослушный,
И ты, как мать, меня не упрекнул,
Ни в чем, мой Дагестан великодушный!
На могиле отца и матери
Тот мир, куда ушли вы друг за другом,
Неужто он и вправду так хорош,
Что все по одиночке или цугом
Туда спешат, рождая в сердце дрожь?
А может быть вы телеграмму дали
Оставшимся на горестной земле,
Чтобы они, презрев свои печали,
За вами растворились в вечной мгле?
Ах, мама, неужели так прекрасны
Те небеса, где ты нашла покой,
И я всю жизнь печалился напрасно,
Что попрощаться не успел с тобой?
Поведай мне, отец, какая сила
В том тяготении заключена,
Что каждый вечер крылья Азраила
Шуршат вблизи от моего окна?
И обжигает ветром леденящим
Мое лицо нездешний этот шум,
Ведь по частичке с каждым уходящим
Я тоже незаметно ухожу.
Я с каждым понемногу умираю,
Кто вдруг упал, как яблоко в саду.
Они уже давно в преддверье рая,
А я, как прежде, в жизненном аду.
Весь век слагавший песни неустанно,
Я не свершал намазы в тишине.
И как перед Аллахом я предстану,
Родители мои, ответьте мне?
Хранимый вашей преданной любовью,
До седины и славы дожил я.
Но что есть смерть? Плита у изголовья?
Молитва ли последняя моя?
А, может, смерть моя тогда настанет,
(Хоть мне представить страшно этот миг!)
Когда в высокогорном Дагестане
Забудется родимый мой язык?
Тот мир, куда ушли вы друг за другом,
Неужто он и вправду так хорош,
Что все по одиночке или цугом
Туда спешат, рождая в сердце дрожь?
А может быть вы телеграмму дали
Оставшимся на горестной земле,
Чтобы они, презрев свои печали,
За вами растворились в вечной мгле?
Ах, мама, неужели так прекрасны
Те небеса, где ты нашла покой,
И я всю жизнь печалился напрасно,
Что попрощаться не успел с тобой?
Поведай мне, отец, какая сила
В том тяготении заключена,
Что каждый вечер крылья Азраила
Шуршат вблизи от моего окна?
И обжигает ветром леденящим
Мое лицо нездешний этот шум,
Ведь по частичке с каждым уходящим
Я тоже незаметно ухожу.
Я с каждым понемногу умираю,
Кто вдруг упал, как яблоко в саду.
Они уже давно в преддверье рая,
А я, как прежде, в жизненном аду.
Весь век слагавший песни неустанно,
Я не свершал намазы в тишине.
И как перед Аллахом я предстану,
Родители мои, ответьте мне?
Хранимый вашей преданной любовью,
До седины и славы дожил я.
Но что есть смерть? Плита у изголовья?
Молитва ли последняя моя?
А, может, смерть моя тогда настанет,
(Хоть мне представить страшно этот миг!)
Когда в высокогорном Дагестане
Забудется родимый мой язык?
Кубачинскому мастеру Манабе Магомедовой
Меняют форму дерево и камень,
Но остается стержень – суть всего.
В скульптуре бездыханной дремлет пламя,
И согревает сердце жар его.
Пока арбуз зеленый не разрежешь
И сердцевину сладкую не съешь,
Достоинств не найдешь – и не забрезжит
Заря в стене, где не пробита брешь.
В каком платке бы девушка прекрасном
Не шла, перебирая бахрому,
Не сможет насладиться парень страстный
Одним прикосновением к нему.
Но, Манаба, твое искусство каждый
Без промедленья может оценить.
Поскольку, увидав его однажды,
Уже не в состоянии забыть.
Держу в руках я книгу чьих-то песен,
Которую мне подарила ты.
Хоть смысл их никому не интересен,
Но в переплете столько красоты!..
Ах, кубачинка, редкостным узором,
Ты покорила многих, как меня,
Чем автора спасла ты от позора,
А труд его бездарный от огня.
Гроша не дал бы я за содержанье,
А за обложку золота не жаль.
Слова Махмуда вспомнив на прощанье,
Я их изрек, не в силах скрыть печаль.
Сказал поэт: «Бедняк простосердечный
Ослицу жеребцом холеным мня,
Решил ее серебряной уздечкой
Украсить, как бесценного коня».
Меняют форму дерево и камень,
Но остается стержень – суть всего.
В скульптуре бездыханной дремлет пламя,
И согревает сердце жар его.
Пока арбуз зеленый не разрежешь
И сердцевину сладкую не съешь,
Достоинств не найдешь – и не забрезжит
Заря в стене, где не пробита брешь.
В каком платке бы девушка прекрасном
Не шла, перебирая бахрому,
Не сможет насладиться парень страстный
Одним прикосновением к нему.
Но, Манаба, твое искусство каждый
Без промедленья может оценить.
Поскольку, увидав его однажды,
Уже не в состоянии забыть.
Держу в руках я книгу чьих-то песен,
Которую мне подарила ты.
Хоть смысл их никому не интересен,
Но в переплете столько красоты!..
Ах, кубачинка, редкостным узором,
Ты покорила многих, как меня,
Чем автора спасла ты от позора,
А труд его бездарный от огня.
Гроша не дал бы я за содержанье,
А за обложку золота не жаль.
Слова Махмуда вспомнив на прощанье,
Я их изрек, не в силах скрыть печаль.
Сказал поэт: «Бедняк простосердечный
Ослицу жеребцом холеным мня,
Решил ее серебряной уздечкой
Украсить, как бесценного коня».
Песня о Махачкале
На Тарки-Тау вновь я поднимаюсь,
Чтобы увидеть всю Махачкалу,
Огни которой в море отражаясь,
Вечернею рассеивают мглу.
Еще окно в Европу я открою,
Как Петр, что здесь камень заложил
И гавань для судов своих построил
У основанья древнего Анжи.
Сегодня в порт наш, обогнув полсвета,
Спешат армады мирных кораблей
И каждый обращается с приветом
К Махачкале, красавице моей.
А волны на дыбы встают, как кони,
И чайки песню жалобно кричат
О стоязычном гордом Вавилоне,
Который рухнул сотни лет назад.
Но в городе моем живут сто наций,
И все они – единая семья.
Гостеприимством славится и братством
Столица дагестанская моя.
Тебя мы любим город величавый,
Как любят скалы горные орлы.
Ты – наша колыбель и наша слава,
Ты, как звезда сияешь нам из мглы.
В каких бы не блуждал краях я разных,
Какая б не терзала грудь тоска,
Моя душа преображалась сразу
При виде городского маяка.
Последний адрес жизни уходящей,
Всегда прекрасна и всегда светла,
Единственной моей и настоящей
Любовью стала ты, Махачкала.
На Тарки-Тау вновь я поднимаюсь,
Чтобы увидеть всю Махачкалу,
Огни которой в море отражаясь,
Вечернею рассеивают мглу.
Еще окно в Европу я открою,
Как Петр, что здесь камень заложил
И гавань для судов своих построил
У основанья древнего Анжи.
Сегодня в порт наш, обогнув полсвета,
Спешат армады мирных кораблей
И каждый обращается с приветом
К Махачкале, красавице моей.
А волны на дыбы встают, как кони,
И чайки песню жалобно кричат
О стоязычном гордом Вавилоне,
Который рухнул сотни лет назад.
Но в городе моем живут сто наций,
И все они – единая семья.
Гостеприимством славится и братством
Столица дагестанская моя.
Тебя мы любим город величавый,
Как любят скалы горные орлы.
Ты – наша колыбель и наша слава,
Ты, как звезда сияешь нам из мглы.
В каких бы не блуждал краях я разных,
Какая б не терзала грудь тоска,
Моя душа преображалась сразу
При виде городского маяка.
Последний адрес жизни уходящей,
Всегда прекрасна и всегда светла,
Единственной моей и настоящей
Любовью стала ты, Махачкала.
И вновь я возвращался в свой аул,
Твой блудный сын, твой мальчик непослушный,
И ты, как мать, меня не упрекнул,
Ни в чем, мой Дагестан великодушный!
Твой блудный сын, твой мальчик непослушный,
И ты, как мать, меня не упрекнул,
Ни в чем, мой Дагестан великодушный!
Чунгур
Прошу, не давайте мне этот чунгур!
Не лейте вино в опустевшую чашу.
Я жизнь покидаю, как раненый тур,
Который спешит в заповедную чащу.
О, время, ты — флюгер… По воле ветров
На запад восток променяешь мгновенно.
Но век мой прошел, и хоть был он суров,
Моей никогда не увидит измены.
Попались надежды мои в западню,
Но цепко карабкаясь вверх по канату,
Пытаются вырваться сто раз на дню
И столько же падают в яму обратно.
Желанья мои провалились под лед,
Что бритвы острей их крошит и калечит,
И старость уже предъявила свой счет,
Который давно мне оплачивать нечем.
Я жизнь не держу, как быка, за рога,
Возможно ли в мире больном быть здоровым
И не умереть от того сквозняка,
Что поколебал мирозданья основы.
Грохочет гроза над горами весной,
Трава шелестит на могилах печально.
Закончилась песня… Но этот покой,
Как пауза, предвосхищает начало.
Прошу, не давайте мне больше чунгур!
Не лейте вино в опустевшую чашу.
Я жизнь покидаю, как раненный тур,
Который спешит в заповедную чашу.
Прошу, не давайте мне этот чунгур!
Не лейте вино в опустевшую чашу.
Я жизнь покидаю, как раненый тур,
Который спешит в заповедную чащу.
О, время, ты — флюгер… По воле ветров
На запад восток променяешь мгновенно.
Но век мой прошел, и хоть был он суров,
Моей никогда не увидит измены.
Попались надежды мои в западню,
Но цепко карабкаясь вверх по канату,
Пытаются вырваться сто раз на дню
И столько же падают в яму обратно.
Желанья мои провалились под лед,
Что бритвы острей их крошит и калечит,
И старость уже предъявила свой счет,
Который давно мне оплачивать нечем.
Я жизнь не держу, как быка, за рога,
Возможно ли в мире больном быть здоровым
И не умереть от того сквозняка,
Что поколебал мирозданья основы.
Грохочет гроза над горами весной,
Трава шелестит на могилах печально.
Закончилась песня… Но этот покой,
Как пауза, предвосхищает начало.
Прошу, не давайте мне больше чунгур!
Не лейте вино в опустевшую чашу.
Я жизнь покидаю, как раненный тур,
Который спешит в заповедную чашу.
Одиночество
Двадцатый век на финишной прямой.
Еще рывок — и ленточка порвется…
А я один стою, как часовой,
Что смены караула не дождется.
Мелькает, как в ускоренном кино,
Планета с миллиардным населеньем.
Но я, как в поле позабытый сноп,
Совсем один под дождиком осенним.
Как дерево в степи — зеленый стяг,
Простреленный насквозь враждебным ветром,
Согнулся в вопросительный я знак,
Нет на который верного ответа.
И в стороне от дедовских могил
Надгробием, которое всех выше,
Как знак я восклицательный застыл,
Чей пламенный призыв никто не слышит.
На острове своем, как Робинзон,
На горизонт гляжу без сожаленья
И одиноко хмурюсь, как бизон,
Который обречен на истребленье.
И в чужеземных странах, видит Бог,
Давным-давно мне не до венских вальсов.
Я в шумных залах также одинок,
Как одинок в них мой язык аварский.
Совсем один, как доблестный солдат,
Что чудом уцелел из всей пехоты.
Из окруженья выйдя наугад,
Попал в непроходимое болото.
Совсем один, как раненый журавль,
В недобрый час отбившийся от стаи…
Уже давно на юг ему пора,
Да крылья перебитые устали.
Еще я так похож на старика,
Которого в Сибирь сослать забыли,
Когда народ его в товарняках,
Как будто в братской погребли могиле.
Как тот изгой у жизни на краю,
Устав и от забвенья, и от славы,
Я в полном одиночестве стою,
Не глядя ни налево, ни направо.
И заполночь, хмельного перебрав,
Что не спасает от сердечной боли,
Я у стола, как будто у костра,
Сижу наедине с самим собою.
В судьбе, где победить должно добро,
Дописана последняя страница.
Ниспосланное свыше мне перо,
Когда-нибудь должно остановиться.
Один я, как мюрид на Ахульго,
Что замерло в объятьях звездной ночи.
Вокруг враги, и больше никого…
Лишь горная Койсу внизу грохочет.
Но сразу отступает смутный страх
Пред жизнью ускользающей и тленной.
Я вовсе не один — со мной Аллах
В безмерном одиночестве вселенной.
Двадцатый век на финишной прямой.
Еще рывок — и ленточка порвется…
А я один стою, как часовой,
Что смены караула не дождется.
Мелькает, как в ускоренном кино,
Планета с миллиардным населеньем.
Но я, как в поле позабытый сноп,
Совсем один под дождиком осенним.
Как дерево в степи — зеленый стяг,
Простреленный насквозь враждебным ветром,
Согнулся в вопросительный я знак,
Нет на который верного ответа.
И в стороне от дедовских могил
Надгробием, которое всех выше,
Как знак я восклицательный застыл,
Чей пламенный призыв никто не слышит.
На острове своем, как Робинзон,
На горизонт гляжу без сожаленья
И одиноко хмурюсь, как бизон,
Который обречен на истребленье.
И в чужеземных странах, видит Бог,
Давным-давно мне не до венских вальсов.
Я в шумных залах также одинок,
Как одинок в них мой язык аварский.
Совсем один, как доблестный солдат,
Что чудом уцелел из всей пехоты.
Из окруженья выйдя наугад,
Попал в непроходимое болото.
Совсем один, как раненый журавль,
В недобрый час отбившийся от стаи…
Уже давно на юг ему пора,
Да крылья перебитые устали.
Еще я так похож на старика,
Которого в Сибирь сослать забыли,
Когда народ его в товарняках,
Как будто в братской погребли могиле.
Как тот изгой у жизни на краю,
Устав и от забвенья, и от славы,
Я в полном одиночестве стою,
Не глядя ни налево, ни направо.
И заполночь, хмельного перебрав,
Что не спасает от сердечной боли,
Я у стола, как будто у костра,
Сижу наедине с самим собою.
В судьбе, где победить должно добро,
Дописана последняя страница.
Ниспосланное свыше мне перо,
Когда-нибудь должно остановиться.
Один я, как мюрид на Ахульго,
Что замерло в объятьях звездной ночи.
Вокруг враги, и больше никого…
Лишь горная Койсу внизу грохочет.
Но сразу отступает смутный страх
Пред жизнью ускользающей и тленной.
Я вовсе не один — со мной Аллах
В безмерном одиночестве вселенной.
Орлы в Гунибе
Здесь белая береза, гостья с севера,
И серебристый тополь коренной
У валуна щербатого и серого
Сплелись навек корнями под землей.
Не разорвать объятье это, где уж там!..
Средь хаоса насупившихся гор
Изгиб скалы, подобный спящей девушке,
Невольно завораживает взор.
Здесь, где над голубыми перевалами
Летят, как птичьи стаи, облака,
Остались навсегда лежать под скалами
Солдаты Апшеронского полка.
И перед боем помолившись наскоро
И выдохнув, как клятву, «Бисмилля!..» —
Здесь полегли под ярым русским натиском
Последние мюриды Шамиля.
Хотя могил и тех и этих поровну,
Меж ними отчужденья полоса.
… А некогда одни и те же вороны
Клевали их застывшие глаза.
И можно до сих пор, как эхо слабое,
Расслышать в гулком говоре реки,
Как громыхают ружья православные,
Как бьются мусульманские клинки.
И разглядеть за тем стволом березовым
Сардара в позолоте эполет —
На сером валуне имама грозного
Он ждет через полутораста лет.
Но между ними, словно камень брошенный,
Крик Байсунгура: «Не сдавайся в пле-е-н», —
Звенит над вековой гунибской рощею,
Чтоб кануть навсегда в бессмертной мгле.
Фельдмаршал и имам — два лютых ворога,
Как кунаки, сошлись в конце войны…
Орлы над головами их, как вороны,
От зноя августовского пьяны.
Они круги сужают над могилами,
Где те и эти спят последним сном,
И в плавном их кружении магическом
Пророчество судьбы заключено.
Шамиль залюбовался завороженный
Полетом одинокого орла…
Почудилось в тот миг имаму, может быть,
Что это друг его Ахвердилав.
А вот еще один орел снижается,
Как зорок его желтый, хищный взгляд…
Стальное сердце дрогнуло от жалости:
«Не ты ли это, мой Хаджи-Мурат?..
Прощайте же, наибы правоверные,
И ты навек, Авария, прощай!..
В плену урусов я еще усерднее
Молиться стану за свой бедный край.
Прощаю вас, противники суровые,
Которых в горы царский гнал приказ.
Перебирая четки бирюзовые,
Я на чужбине вспомню и про вас.
Умолкнут пусть и пушки, и орудия —
Война не может длиться без конца…
Перед Аллахом поднимаю руки я,
А не перед тобою, белый царь».
… На этом месте, где в годину грозную
Последний штурм взорвался, как снаряд,
Южанин-тополь с северной березою,
Обнявшись, над могилами стоят.
Им все равно: жара ли, дождь ли, ветер ли —
Они корнями цепкими сплелись,
И никому за полтора столетия
Не удалось их вырвать из земли.
Под солнцем плиты выцвели надгробные,
Аварские и русские… Вдали
От необъятной первой своей родины
Они навек вторую обрели.
А кто их оскверняет в ослеплении,
Народец мелкий, только и всего,
И, разве что, достоин сожаления
За мстительное варварство его.
Пусть разозлятся жалкие подонки
На эти откровенные стихи.
Погибшим Бог судья — а не потомки! —
Он, милосердный, всем простит грехи.
Здесь белая береза, гостья с севера,
И серебристый тополь коренной
У валуна щербатого и серого
Сплелись навек корнями под землей.
Не разорвать объятье это, где уж там!..
Средь хаоса насупившихся гор
Изгиб скалы, подобный спящей девушке,
Невольно завораживает взор.
Здесь, где над голубыми перевалами
Летят, как птичьи стаи, облака,
Остались навсегда лежать под скалами
Солдаты Апшеронского полка.
И перед боем помолившись наскоро
И выдохнув, как клятву, «Бисмилля!..» —
Здесь полегли под ярым русским натиском
Последние мюриды Шамиля.
Хотя могил и тех и этих поровну,
Меж ними отчужденья полоса.
… А некогда одни и те же вороны
Клевали их застывшие глаза.
И можно до сих пор, как эхо слабое,
Расслышать в гулком говоре реки,
Как громыхают ружья православные,
Как бьются мусульманские клинки.
И разглядеть за тем стволом березовым
Сардара в позолоте эполет —
На сером валуне имама грозного
Он ждет через полутораста лет.
Но между ними, словно камень брошенный,
Крик Байсунгура: «Не сдавайся в пле-е-н», —
Звенит над вековой гунибской рощею,
Чтоб кануть навсегда в бессмертной мгле.
Фельдмаршал и имам — два лютых ворога,
Как кунаки, сошлись в конце войны…
Орлы над головами их, как вороны,
От зноя августовского пьяны.
Они круги сужают над могилами,
Где те и эти спят последним сном,
И в плавном их кружении магическом
Пророчество судьбы заключено.
Шамиль залюбовался завороженный
Полетом одинокого орла…
Почудилось в тот миг имаму, может быть,
Что это друг его Ахвердилав.
А вот еще один орел снижается,
Как зорок его желтый, хищный взгляд…
Стальное сердце дрогнуло от жалости:
«Не ты ли это, мой Хаджи-Мурат?..
Прощайте же, наибы правоверные,
И ты навек, Авария, прощай!..
В плену урусов я еще усерднее
Молиться стану за свой бедный край.
Прощаю вас, противники суровые,
Которых в горы царский гнал приказ.
Перебирая четки бирюзовые,
Я на чужбине вспомню и про вас.
Умолкнут пусть и пушки, и орудия —
Война не может длиться без конца…
Перед Аллахом поднимаю руки я,
А не перед тобою, белый царь».
… На этом месте, где в годину грозную
Последний штурм взорвался, как снаряд,
Южанин-тополь с северной березою,
Обнявшись, над могилами стоят.
Им все равно: жара ли, дождь ли, ветер ли —
Они корнями цепкими сплелись,
И никому за полтора столетия
Не удалось их вырвать из земли.
Под солнцем плиты выцвели надгробные,
Аварские и русские… Вдали
От необъятной первой своей родины
Они навек вторую обрели.
А кто их оскверняет в ослеплении,
Народец мелкий, только и всего,
И, разве что, достоин сожаления
За мстительное варварство его.
Пусть разозлятся жалкие подонки
На эти откровенные стихи.
Погибшим Бог судья — а не потомки! —
Он, милосердный, всем простит грехи.
- Журавли в Гунибе
- Посредственность
- Суд
- Магомеду Ахмедову - моему молодому другу
- Останется любовь
- Абдурахману Даниялову
- Пять наставлений
- Разговор Гамзата Цадасы с Сулейманом Стальским
- В изящном бокале прекрасно вино...
- Двадцатый век...
- О мысль, я изведал тебя до конца...
- Памяти Кайсына Кулиева
- Когда весной растает снег на крыше...
- Перемены
- Люблю я робкий миг первоначальный...
- Я и сам, конечно, пес из псов...
- Надпись на книге, подаренной Джаминат Керимовой
- Кружится снег в полуденном мире...
Журавли в Гунибе
Вытянув длинные белые шеи,
Кажется, вот-вот вы скроетесь с глаз.
Хоть и привык к расставаньям уже я,
С болью щемящей взираю на вас.
Клонится жизнь, будто август, к закату,
И караваны пернатых, увы,
От холодов улетают куда-то,
Что ж, белокрылые, медлите вы?
Там в вышине перелетная стая:
«Африка! Африка!» — зычно трубит,
Думая, видимо, что вы отстали,
Клин ваш пытается поторопить.
Ведь не орлы же вы в самом-то деле,
Что под напором осенних ветров
Вечной скалистой своей колыбели
Не променяют на временный кров.
Что ж не торопитесь вы на чужбину?..
Ранний над крыльями кружится снег,
Вас нарядив в кружева балерины
Иль в белый саван закутав навек?
Каждое утро седая аварка,
Чьи сыновья на войне полегли,
Сгорбившись скорбно над пламенем ярким,
Молится вам, как сынам, журавли.
И молодые горянки под вечер,
Хоть ненадолго, но к вам залетят
Разноголосою стайкой беспечной —
И затуманится девичий взгляд…
Горы и те, тяготенье нарушив,
Сдвинувшись с места, сплотились тесней,
Оберегая солдатские души
От снегопадов, ветров и дождей.
Только они рвутся в небо Гуниба,
Хоть пьедестал неотступен, как тень.
Солнце над ними светящимся нимбом,
Как над святыми, сияет весь день.
Грустные птицы!.. Сюда прилетели
Вы из моих сокровенных стихов
И одинокою белой метелью
В камне застыли на веки веков.
Мир облетевшие, в горном ауле
Вы обрели долгожданный покой,
Будто с войны той далекой вернулись
Все сыновья вместе с вами домой.
Что же вы, легкие перья роняя,
Рветесь к безоблачной голубизне?..
Голову я перед вами склоняю,
Белую-белую, как этот снег.
Вытянув длинные белые шеи,
Кажется, вот-вот вы скроетесь с глаз.
Хоть и привык к расставаньям уже я,
С болью щемящей взираю на вас.
Клонится жизнь, будто август, к закату,
И караваны пернатых, увы,
От холодов улетают куда-то,
Что ж, белокрылые, медлите вы?
Там в вышине перелетная стая:
«Африка! Африка!» — зычно трубит,
Думая, видимо, что вы отстали,
Клин ваш пытается поторопить.
Ведь не орлы же вы в самом-то деле,
Что под напором осенних ветров
Вечной скалистой своей колыбели
Не променяют на временный кров.
Что ж не торопитесь вы на чужбину?..
Ранний над крыльями кружится снег,
Вас нарядив в кружева балерины
Иль в белый саван закутав навек?
Каждое утро седая аварка,
Чьи сыновья на войне полегли,
Сгорбившись скорбно над пламенем ярким,
Молится вам, как сынам, журавли.
И молодые горянки под вечер,
Хоть ненадолго, но к вам залетят
Разноголосою стайкой беспечной —
И затуманится девичий взгляд…
Горы и те, тяготенье нарушив,
Сдвинувшись с места, сплотились тесней,
Оберегая солдатские души
От снегопадов, ветров и дождей.
Только они рвутся в небо Гуниба,
Хоть пьедестал неотступен, как тень.
Солнце над ними светящимся нимбом,
Как над святыми, сияет весь день.
Грустные птицы!.. Сюда прилетели
Вы из моих сокровенных стихов
И одинокою белой метелью
В камне застыли на веки веков.
Мир облетевшие, в горном ауле
Вы обрели долгожданный покой,
Будто с войны той далекой вернулись
Все сыновья вместе с вами домой.
Что же вы, легкие перья роняя,
Рветесь к безоблачной голубизне?..
Голову я перед вами склоняю,
Белую-белую, как этот снег.
Посредственность
Я не люблю посредственность судьбы,
Хотя так много серости на свете
Спешит склонить услужливые лбы
В ту сторону, откуда дует ветер.
Бывает спор меж небом и землей -
И гром, и град, и молний пантомима…
И меж друзьями может грянуть бой,
Лишь серость, как всегда, невозмутима.
Посредственных чиновников толпа,
Как век назад толкается у трона.
И катится, как под гору арба,
Поклон подобострастный за поклоном.
Посредственных поэтов череда
Спешит гуськом на творческую спевку,
И Муза, умирая от стыда,
Выходит на панель продажной девкой.
Заполонила серость все кругом,
И от нее не скрыться, как ни странно.
Захлопнешь дверь, забьешь гвоздями дом -
Таращится она с телеэкрана.
Жужжит реклама, как веретено,
Назойлива, хотя всегда убога.
Она успешно выжила давно
С экранов наших Пушкина и Блока.
Посредственность без меры, без конца
Заполнила высокие трибуны.
И микрофоны, заглушив сердца,
Гремят сегодня громче горских бубнов.
Растерзана могучая страна,
Разъято ложью время и пространство…
И серость вновь от хаоса пьяна,
Напялила корону самозванства.
Оттачивает свой имперский клюв,
Поглядывая в зеркало кривое…
Посредственность, тебя я не люблю,
Но и вражды своей не удостою.
Я не люблю посредственность судьбы,
Хотя так много серости на свете
Спешит склонить услужливые лбы
В ту сторону, откуда дует ветер.
Бывает спор меж небом и землей -
И гром, и град, и молний пантомима…
И меж друзьями может грянуть бой,
Лишь серость, как всегда, невозмутима.
Посредственных чиновников толпа,
Как век назад толкается у трона.
И катится, как под гору арба,
Поклон подобострастный за поклоном.
Посредственных поэтов череда
Спешит гуськом на творческую спевку,
И Муза, умирая от стыда,
Выходит на панель продажной девкой.
Заполонила серость все кругом,
И от нее не скрыться, как ни странно.
Захлопнешь дверь, забьешь гвоздями дом -
Таращится она с телеэкрана.
Жужжит реклама, как веретено,
Назойлива, хотя всегда убога.
Она успешно выжила давно
С экранов наших Пушкина и Блока.
Посредственность без меры, без конца
Заполнила высокие трибуны.
И микрофоны, заглушив сердца,
Гремят сегодня громче горских бубнов.
Растерзана могучая страна,
Разъято ложью время и пространство…
И серость вновь от хаоса пьяна,
Напялила корону самозванства.
Оттачивает свой имперский клюв,
Поглядывая в зеркало кривое…
Посредственность, тебя я не люблю,
Но и вражды своей не удостою.
Я не люблю посредственность судьбы,
Хотя так много серости на свете
Спешит склонить услужливые лбы
В ту сторону, откуда дует ветер.
Хотя так много серости на свете
Спешит склонить услужливые лбы
В ту сторону, откуда дует ветер.
Суд
Когда завершится мой жизненный срок
И мост мне сиратский вдали замаячит,
Могучий судья, подводящий итог,
Вопросами трижды мой ум озадачит.
Он спросит: — Оставивший жизнь позади,
Познал ли ты счастье, по миру блуждая?
И сердце, как пламя, забьется в груди,
Я имя твое назову, дорогая.
Он спросит: — Оставивший жизненный шум,
Познал ли ты горе на суетном свете?
На грозные тучи ему покажу,
Не меньше в душе моей черных отметин.
Он спросит: — Эпоха зашла, как звезда,
В каком из грехов ты бы ей повинился?
Лишь в том, что политиком был иногда,
Хотя на земле я поэтом родился.
Но прежде, чем суд мою участь решит,
Всевидящим оком всю жизнь озирая,
Всевышнего я попрошу от души
Найти мне местечко меж адом и раем.
Когда завершится мой жизненный срок
И мост мне сиратский вдали замаячит,
Могучий судья, подводящий итог,
Вопросами трижды мой ум озадачит.
Он спросит: — Оставивший жизнь позади,
Познал ли ты счастье, по миру блуждая?
И сердце, как пламя, забьется в груди,
Я имя твое назову, дорогая.
Он спросит: — Оставивший жизненный шум,
Познал ли ты горе на суетном свете?
На грозные тучи ему покажу,
Не меньше в душе моей черных отметин.
Он спросит: — Эпоха зашла, как звезда,
В каком из грехов ты бы ей повинился?
Лишь в том, что политиком был иногда,
Хотя на земле я поэтом родился.
Но прежде, чем суд мою участь решит,
Всевидящим оком всю жизнь озирая,
Всевышнего я попрошу от души
Найти мне местечко меж адом и раем.
Магомеду Ахмедову — моему молодому другу
Мой друг, оставляю тебе, уходя,
Я книгу стихов, где чисты все страницы,
В которой надежда моя, как дитя,
Еще не успела на свет появиться.
Сундук своих старых и новых счетов,
До коих мои кредиторы охочи…
Я знаю, что ты расплатиться готов
Не медью, а золотом будущих строчек.
Любовь оставляю последнюю я,
Алмаз драгоценный, который когда-то
Я спрятал надежно в родимых краях,
Но, где тот тайник, позабыл безвозвратно.
Еще оставляю тебе, Магомед,
Небесную азбуку звезд, по которой
Способен прочесть настоящий поэт,
Что сбудется с нашим отечеством скоро.
Но, если пропущены в тексте слова,
Не стоит искать их в упрямстве сердитом.
Пусть лучше склонится твоя голова
В том месте, где предков могильные плиты…
Ты к ним подойди и как преданный сын
Безмолвие сонных столетий послушай,
Где жизнь остановлена, словно часы,
Лишь дышат, как травы, бессмертные души.
… Ах, как незаметно подкралась зима!
Свалилась холодным нетающим снегом
На голову мне, ужаснувшись сама,
Как будто бы гром среди ясного неба.
Как быстро моя молодая мечта
Из девушки вдруг превратилась в старуху,
Где правила миром вчера красота,
Сегодня царит беспощадно разруха.
Звенящая песня разгульной весны
Негаданно стала протяжным намазом,
И юности буйной цветастые сны
От солнца палящего выцвели разом.
От белой напасти спасения нет
И от сквозняков больше некуда деться,
Но я завещаю тебе, Магомед,
Мою недопетую песню в наследство.
Прижми ты ее, как ребенка, к груди,
Пьянящим морозом позволь надышаться!
От мысли, что все у тебя впереди,
Мне легче и радостней с ней расставаться.
Мой друг, напоследок в гунибском лесу
Дарю я тебе неприступные скалы,
Где, может быть, выследишь ты ту лису,
В которую пуля моя не попала.
Вершину, куда я подняться не смог…
Ущелье, куда не посмел я спуститься…
И думу мою, о которой лишь Бог
Узнает на самой последней странице.
Мой друг, оставляю тебе, уходя,
Я книгу стихов, где чисты все страницы,
В которой надежда моя, как дитя,
Еще не успела на свет появиться.
Сундук своих старых и новых счетов,
До коих мои кредиторы охочи…
Я знаю, что ты расплатиться готов
Не медью, а золотом будущих строчек.
Любовь оставляю последнюю я,
Алмаз драгоценный, который когда-то
Я спрятал надежно в родимых краях,
Но, где тот тайник, позабыл безвозвратно.
Еще оставляю тебе, Магомед,
Небесную азбуку звезд, по которой
Способен прочесть настоящий поэт,
Что сбудется с нашим отечеством скоро.
Но, если пропущены в тексте слова,
Не стоит искать их в упрямстве сердитом.
Пусть лучше склонится твоя голова
В том месте, где предков могильные плиты…
Ты к ним подойди и как преданный сын
Безмолвие сонных столетий послушай,
Где жизнь остановлена, словно часы,
Лишь дышат, как травы, бессмертные души.
… Ах, как незаметно подкралась зима!
Свалилась холодным нетающим снегом
На голову мне, ужаснувшись сама,
Как будто бы гром среди ясного неба.
Как быстро моя молодая мечта
Из девушки вдруг превратилась в старуху,
Где правила миром вчера красота,
Сегодня царит беспощадно разруха.
Звенящая песня разгульной весны
Негаданно стала протяжным намазом,
И юности буйной цветастые сны
От солнца палящего выцвели разом.
От белой напасти спасения нет
И от сквозняков больше некуда деться,
Но я завещаю тебе, Магомед,
Мою недопетую песню в наследство.
Прижми ты ее, как ребенка, к груди,
Пьянящим морозом позволь надышаться!
От мысли, что все у тебя впереди,
Мне легче и радостней с ней расставаться.
Мой друг, напоследок в гунибском лесу
Дарю я тебе неприступные скалы,
Где, может быть, выследишь ты ту лису,
В которую пуля моя не попала.
Вершину, куда я подняться не смог…
Ущелье, куда не посмел я спуститься…
И думу мою, о которой лишь Бог
Узнает на самой последней странице.
Останется любовь
Вселенную сжигали восемь раз…
И восемь раз ее творили вновь,
Вдыхая страсть и в дерево, и в камень.
А что же уцелеет после нас?..
Ты, Патимат, и ты — моя любовь,
Останетесь ли, как вода и пламень?
Под натиском Атиллы рухнул Рим,
И стая волн, от бешенства устав,
Над Атлантидой стихла мертвым штилем.
Не ведаем мы сами, что творим…
Но мир спасут любовь и красота,
И разум, о котором мы забыли.
Ушли и Чингисхан, и Бонапарт.
И больше не застынет в жилах кровь
При имени одном — товарищ Сталин!..
Но жизнь прекрасна, как случайный дар,
Поскольку Патимат и ты — любовь,
Наперекор всем трудностям остались.
Похож на шубу дервиша Союз —
Кому не лень, за волос, за лоскут,
Ее давно раздергали на части.
Цела ль еще?.. Глаза открыть боюсь.
Но Патимат моя, как прежде, тут
И ты, любовь, что неделима, к счастью.
Вселенную сжигали восемь раз…
И восемь раз ее творили вновь,
Вдыхая страсть и в дерево, и в камень.
А что же уцелеет после нас?..
Ты, Патимат, и ты — моя любовь,
Останетесь ли, как вода и пламень?
Под натиском Атиллы рухнул Рим,
И стая волн, от бешенства устав,
Над Атлантидой стихла мертвым штилем.
Не ведаем мы сами, что творим…
Но мир спасут любовь и красота,
И разум, о котором мы забыли.
Ушли и Чингисхан, и Бонапарт.
И больше не застынет в жилах кровь
При имени одном — товарищ Сталин!..
Но жизнь прекрасна, как случайный дар,
Поскольку Патимат и ты — любовь,
Наперекор всем трудностям остались.
Похож на шубу дервиша Союз —
Кому не лень, за волос, за лоскут,
Ее давно раздергали на части.
Цела ль еще?.. Глаза открыть боюсь.
Но Патимат моя, как прежде, тут
И ты, любовь, что неделима, к счастью.
Абдурахману Даниялову
Над мраморной надгробною плитою,
Где мой товарищ старый погребен,
Стою я с непокрытой головою
И слышу — окликает меня он.
Не может быть, не верю – это ветер
Гудит в высоковольтных проводах.
Коль друг мой не забыт на этом свете,
Он и на том не обратится в прах.
Я вижу силуэт его знакомый
Спокойно приближается ко мне.
Как прежде, Председатель Совнаркома,
Давай поговорим наедине.
Пусть отзвенело молодости стремя
И в горы скакуны несут не нас…
Абдурахман, стремительное время
Всем по заслугам должное воздаст.
Пусть молодежь, хлебнув глоток свободы
Нас критикует вдоль и поперек,
Ей невдомек, что в сталинские годы
Ты Дагестан от Берии сберег.
Везли в Сибирь товарные составы
Как скот, безвинных братьев из Чечни…
А ты спасал своих не ради славы,
Но чтобы уцелели, хоть они.
Немало добрых дел в посмертном списке:
Дома, шоссе, плотины, города…
На этом строгом белом обелиске
Они б не поместились никогда.
Но в душах горцев им найдется место,
Почетное, как старым кунакам,
В аулах наших горских, как известно,
Оно в гостиной возле очага.
Не раз я там встречал твои портреты
Из пожелтевших выцветших газет,
Летели, как года, авторитеты,
Но ты остался в круговерти лет.
В названьи тихой улочки просторной
И в крике народившегося дня,
И в шепоте плененной речки горной
В родной земле…
И в сердце у меня.
Поэтому склонившись над плитою,
Я говорю, прощаясь до поры:
— Хотя и скрылось солнце за горою,
Оно опять взойдет из-за горы.
Над мраморной надгробною плитою,
Где мой товарищ старый погребен,
Стою я с непокрытой головою
И слышу — окликает меня он.
Не может быть, не верю – это ветер
Гудит в высоковольтных проводах.
Коль друг мой не забыт на этом свете,
Он и на том не обратится в прах.
Я вижу силуэт его знакомый
Спокойно приближается ко мне.
Как прежде, Председатель Совнаркома,
Давай поговорим наедине.
Пусть отзвенело молодости стремя
И в горы скакуны несут не нас…
Абдурахман, стремительное время
Всем по заслугам должное воздаст.
Пусть молодежь, хлебнув глоток свободы
Нас критикует вдоль и поперек,
Ей невдомек, что в сталинские годы
Ты Дагестан от Берии сберег.
Везли в Сибирь товарные составы
Как скот, безвинных братьев из Чечни…
А ты спасал своих не ради славы,
Но чтобы уцелели, хоть они.
Немало добрых дел в посмертном списке:
Дома, шоссе, плотины, города…
На этом строгом белом обелиске
Они б не поместились никогда.
Но в душах горцев им найдется место,
Почетное, как старым кунакам,
В аулах наших горских, как известно,
Оно в гостиной возле очага.
Не раз я там встречал твои портреты
Из пожелтевших выцветших газет,
Летели, как года, авторитеты,
Но ты остался в круговерти лет.
В названьи тихой улочки просторной
И в крике народившегося дня,
И в шепоте плененной речки горной
В родной земле…
И в сердце у меня.
Поэтому склонившись над плитою,
Я говорю, прощаясь до поры:
— Хотя и скрылось солнце за горою,
Оно опять взойдет из-за горы.
Пять наставлений
1.
Коль тебе другие не по вкусу,
И от них любви к себе не жди.
Не бери на совесть много груза,
Чтобы мост не рухнул по пути.
2.
Запомни, что в груди врага —
Не брынза, а душа живая,
Что ссора из-за пустяка
И великана унижает.
Поверь, что звонкий голос твой
В могучем хоре станет глуше,
Что у соперника порой
Кинжалы твоего не хуже.
3.
Тот не будет всадником умелым,
Кто с коня не падал невзначай.
Если ты хромаешь то и дело,
На животном зло не вымещай.
Тот не будет истинным поэтом,
Кто не рвал в сердцах черновики.
Если ты не ведаешь об этом,
Не пеняй на слабые стихи.
4.
Чтоб одолеть крутые перевалы,
Необходимо путнику немало —
Стальное тело и здоровый дух,
И старый друг, что лучше новых двух.
Когда душа полна весенней страсти,
Ей не помеха зимнее ненастье.
Найдется и для радости причина —
Письмо любимой о рожденьи сына.
5.
Кто отступил однажды перед горем,
Не сбережет и счастья в свой черед.
Кто никогда со страхами не спорил,
Вовеки храбрецом не прослывет.
1.
Коль тебе другие не по вкусу,
И от них любви к себе не жди.
Не бери на совесть много груза,
Чтобы мост не рухнул по пути.
2.
Запомни, что в груди врага —
Не брынза, а душа живая,
Что ссора из-за пустяка
И великана унижает.
Поверь, что звонкий голос твой
В могучем хоре станет глуше,
Что у соперника порой
Кинжалы твоего не хуже.
3.
Тот не будет всадником умелым,
Кто с коня не падал невзначай.
Если ты хромаешь то и дело,
На животном зло не вымещай.
Тот не будет истинным поэтом,
Кто не рвал в сердцах черновики.
Если ты не ведаешь об этом,
Не пеняй на слабые стихи.
4.
Чтоб одолеть крутые перевалы,
Необходимо путнику немало —
Стальное тело и здоровый дух,
И старый друг, что лучше новых двух.
Когда душа полна весенней страсти,
Ей не помеха зимнее ненастье.
Найдется и для радости причина —
Письмо любимой о рожденьи сына.
5.
Кто отступил однажды перед горем,
Не сбережет и счастья в свой черед.
Кто никогда со страхами не спорил,
Вовеки храбрецом не прослывет.
Разговор Гамзата Цадасы с Сулейманом Стальским
Однажды, люди говорят,
От вечности устав,
Покинул бронзовый Гамзат
Высокий пьедестал.
И медленно пошел туда,
Где бронзовый ашуг
Его у моря поджидал,
Как друга верный друг.
— Салам алейкум, Сулейман, —
Сказал ему Гамзат, —
Переменился Дагестан,
А мы все те же, брат.
Скорей спускайся вниз ко мне,
Давай с тобой вдвоем
Поговорим о старине
И времени былом.
Но усмехнулся Сулейман,
Качая головой:
— Гамзат, ведь здесь не годекан
И не аул родной.
И стоит нам с тобой едва
Покинуть свой гранит,
Как молодых писак толпа
Сейчас же набежит.
Прости меня, мой друг Гамзат,
Ты мудрый аксакал,
Но возвращайся-ка назад,
Пока не опоздал.
Гамзат ответил: — Баркала, —
И поспешил туда,
Где, как вершина без орла,
Зияла пустота.
Но, подойдя, он увидал,
Как, улучив момент,
Карабкался на пьедестал
Коротенький поэт.
Однажды, люди говорят,
От вечности устав,
Покинул бронзовый Гамзат
Высокий пьедестал.
И медленно пошел туда,
Где бронзовый ашуг
Его у моря поджидал,
Как друга верный друг.
— Салам алейкум, Сулейман, —
Сказал ему Гамзат, —
Переменился Дагестан,
А мы все те же, брат.
Скорей спускайся вниз ко мне,
Давай с тобой вдвоем
Поговорим о старине
И времени былом.
Но усмехнулся Сулейман,
Качая головой:
— Гамзат, ведь здесь не годекан
И не аул родной.
И стоит нам с тобой едва
Покинуть свой гранит,
Как молодых писак толпа
Сейчас же набежит.
Прости меня, мой друг Гамзат,
Ты мудрый аксакал,
Но возвращайся-ка назад,
Пока не опоздал.
Гамзат ответил: — Баркала, —
И поспешил туда,
Где, как вершина без орла,
Зияла пустота.
Но, подойдя, он увидал,
Как, улучив момент,
Карабкался на пьедестал
Коротенький поэт.
В изящном бокале прекрасно вино...
В изящном бокале прекрасно вино!
Как солнце искристое, манит оно.
Я выпил бокал и наполнил другой…
Но радужный свет почернел предо мной.
В хрустальном бокале вино, как слеза.
Да мутная в нем созревает гроза.
И буйство безумное с ней заодно
Мой разум доверчивый тащит на дно.
В нарядном бокале не правда, а ложь,
Что прячет до срока предательский нож.
Ах, сколько талантов врасплох он застиг
И по миру сколькие семьи пустил?
В прозрачном бокале двулико вино —
Коварных врагов развлекает оно,
Зато на моих простодушных друзей
Тоску нагоняет притворный елей.
В проклятом бокале не истина, нет,
А пьяной иллюзии сумрачный бред.
Я вдребезги этот бокал разобью
И в кружку воды родниковой налью.
В изящном бокале прекрасно вино!
Как солнце искристое, манит оно.
Я выпил бокал и наполнил другой…
Но радужный свет почернел предо мной.
В хрустальном бокале вино, как слеза.
Да мутная в нем созревает гроза.
И буйство безумное с ней заодно
Мой разум доверчивый тащит на дно.
В нарядном бокале не правда, а ложь,
Что прячет до срока предательский нож.
Ах, сколько талантов врасплох он застиг
И по миру сколькие семьи пустил?
В прозрачном бокале двулико вино —
Коварных врагов развлекает оно,
Зато на моих простодушных друзей
Тоску нагоняет притворный елей.
В проклятом бокале не истина, нет,
А пьяной иллюзии сумрачный бред.
Я вдребезги этот бокал разобью
И в кружку воды родниковой налью.
Двадцатый век...
Двадцатый век!
И ты уходишь тоже,
Меня досыта жизнью напоив.
Так отпусти грехи мои за то что,
Они гораздо меньше, чем твои.
Уже зима деревья обнажила,
Раскинув сети спутанных ветвей.
Но слишком поздно жизнь меня спросила
О том большом, что знаю я о ней.
Как часто я сбегал с ее уроков!
Своей любимой песни сочинял.
Благодарил льстецов своих до срока
И с опозданьем подлость понимал.
Двадцатый век!
Не ты ль всему виною?
Но усмехаясь, век ответил мне,
Что в этом мире правит тот арбою,
Кто сам сидеть отважился на ней.
Я тоже сверху падал не однажды
На поворотах резких и крутых…
Так лань в лесу разгуливает важно,
Могучим львом себя вообразив.
Двадцатый век!
И ты уходишь тоже,
Меня досыта жизнью напоив.
Так отпусти грехи мои за то что,
Они гораздо меньше, чем твои.
Уже зима деревья обнажила,
Раскинув сети спутанных ветвей.
Но слишком поздно жизнь меня спросила
О том большом, что знаю я о ней.
Как часто я сбегал с ее уроков!
Своей любимой песни сочинял.
Благодарил льстецов своих до срока
И с опозданьем подлость понимал.
Двадцатый век!
Не ты ль всему виною?
Но усмехаясь, век ответил мне,
Что в этом мире правит тот арбою,
Кто сам сидеть отважился на ней.
Я тоже сверху падал не однажды
На поворотах резких и крутых…
Так лань в лесу разгуливает важно,
Могучим львом себя вообразив.
О мысль, я изведал тебя до конца...
О мысль, я изведал тебя до конца!
Причина тому не бахвальство глупца.
Когда я к виску прижимаю ладонь,
Ее согревает мятежный огонь.
О страсть, я изведал тебя до конца!
Причина тому не седины отца.
Когда я к родным припадаю устам,
То чувствую, что от любви не устал.
О песнь, я изведал тебя до конца!
Причина тому не итог мудреца.
Когда колыбельную внучке пою,
Я вижу невольно в ней маму свою.
О жизнь, я изведал тебя до конца!
Причина тому не богатство скупца.
Когда расставаться приблизится срок,
В Цада возвращусь я на отчий порог.
О мысль, я изведал тебя до конца!
Причина тому не бахвальство глупца.
Когда я к виску прижимаю ладонь,
Ее согревает мятежный огонь.
О страсть, я изведал тебя до конца!
Причина тому не седины отца.
Когда я к родным припадаю устам,
То чувствую, что от любви не устал.
О песнь, я изведал тебя до конца!
Причина тому не итог мудреца.
Когда колыбельную внучке пою,
Я вижу невольно в ней маму свою.
О жизнь, я изведал тебя до конца!
Причина тому не богатство скупца.
Когда расставаться приблизится срок,
В Цада возвращусь я на отчий порог.
Памяти Кайсына Кулиева
Друзья мои — Чингиз, Давид, Мустай,
Осиротила нас кончина брата.
Сказав Эльбрусу тихое «прощай»,
Ушел он в путь, откуда нет возврата.
Совсем недавно, кажется, его
Проведывал я в Кунцевской больнице,
И вот не стало друга моего —
Скалы, к которой можно прислониться.
Скорби, Чегем…
И ты скорби, Кавказ,
Под траурною буркой южной ночи.
Балкария, закрой в последний раз
Сыновние безжизненные очи.
А, кажется, они еще вчера
Меня встречали искрами лукавства.
Шутил Кайсын:
— Бессильны доктора…
Но смех от смерти — лучшее лекарство,
Сейчас бы нам созвать сюда друзей,
Чтобы вдали от суеты и славы
Припомнить, как седлали мы коней
И не меняли их на переправах.
Припомнить фронт и белый парашют,
Как эдельвейс над черной Украиной…
Павлычко и Гончар — они поймут
Ту боль, что нас связала воедино.
Киргизию припомнить, где в краю
Пустынном средь безверия и мрака
Опальных лет хранили жизнь мою,
Как талисманы, письма Пастернака.
… Кайсын устал и кликнул медсестру,
Сжав сердце побледневшею ладонью.
Но усмехнулся вновь:
— Я не умру,
Покуда всех друзей своих не вспомню.
Где Зульфия, Ираклий, Шукрулло?..
Поклон им всем, а также Сильве милой.
Наверное, с судьбой мне повезло,
Коль дружбою меня не обделила.
Как чувствует Андроников себя?
Где Гранин Даниил и Дудин Миша?..
Я с жизнью бы расстался, не скорбя,
Да жаль, что Ленинграда не увижу.
И не поеду больше в горный край
Взглянуть на море со скалы высокой…
Как поживает там кунак Аткай?
Шинкуба где теперь, абхазский сокол?
Козловский, Гребнев?..
Верные друзья
И рыцари разноязыкой музы.
Досадно мне, что рог поднять нельзя
Во здравие их славного союза.
… День догорел, и ветер в соснах стих,
Когда в палате Кунцевской больницы
Мы вспоминали мертвых и живых
Собратьев наших имена и лица.
Вургун, Твардовский, Симонов, Бажан,
Мирзо Турсун-заде и Чиковани…
Как птица из силков, рвалась душа
В космический простор воспоминаний.
И в резко наступившей темноте,
А, может быть, почудилось мне это —
Сарьян на простыне, как на холсте,
Писал эскиз последнего портрета.
Кайсын Кулиев умер…
Нет, погиб
В неравной схватке с собственной судьбою.
Не траурный мотив, державный гимн
Пускай звучит над каменной плитою.
И если скажут вам, Кайсына нет,
Не верьте обывательскому вздору.
Чтоб во весь рост создать его портрет,
Нам нужен холст снегов, укрывший горы.
Друзья мои — Давид, Мустай, Алим,
Я вас прошу, поближе подойдите
Не для того, чтобы проститься с ним,
В залог слезу оставив на граните.
Балкария, пускай ушел твой сын
Туда, откуда нет пути обратно…
Но закричи призывное:
— Кайсы-ы-ы-н! —
Он отзовется эхом многократным.
Друзья мои — Чингиз, Давид, Мустай,
Осиротила нас кончина брата.
Сказав Эльбрусу тихое «прощай»,
Ушел он в путь, откуда нет возврата.
Совсем недавно, кажется, его
Проведывал я в Кунцевской больнице,
И вот не стало друга моего —
Скалы, к которой можно прислониться.
Скорби, Чегем…
И ты скорби, Кавказ,
Под траурною буркой южной ночи.
Балкария, закрой в последний раз
Сыновние безжизненные очи.
А, кажется, они еще вчера
Меня встречали искрами лукавства.
Шутил Кайсын:
— Бессильны доктора…
Но смех от смерти — лучшее лекарство,
Сейчас бы нам созвать сюда друзей,
Чтобы вдали от суеты и славы
Припомнить, как седлали мы коней
И не меняли их на переправах.
Припомнить фронт и белый парашют,
Как эдельвейс над черной Украиной…
Павлычко и Гончар — они поймут
Ту боль, что нас связала воедино.
Киргизию припомнить, где в краю
Пустынном средь безверия и мрака
Опальных лет хранили жизнь мою,
Как талисманы, письма Пастернака.
… Кайсын устал и кликнул медсестру,
Сжав сердце побледневшею ладонью.
Но усмехнулся вновь:
— Я не умру,
Покуда всех друзей своих не вспомню.
Где Зульфия, Ираклий, Шукрулло?..
Поклон им всем, а также Сильве милой.
Наверное, с судьбой мне повезло,
Коль дружбою меня не обделила.
Как чувствует Андроников себя?
Где Гранин Даниил и Дудин Миша?..
Я с жизнью бы расстался, не скорбя,
Да жаль, что Ленинграда не увижу.
И не поеду больше в горный край
Взглянуть на море со скалы высокой…
Как поживает там кунак Аткай?
Шинкуба где теперь, абхазский сокол?
Козловский, Гребнев?..
Верные друзья
И рыцари разноязыкой музы.
Досадно мне, что рог поднять нельзя
Во здравие их славного союза.
… День догорел, и ветер в соснах стих,
Когда в палате Кунцевской больницы
Мы вспоминали мертвых и живых
Собратьев наших имена и лица.
Вургун, Твардовский, Симонов, Бажан,
Мирзо Турсун-заде и Чиковани…
Как птица из силков, рвалась душа
В космический простор воспоминаний.
И в резко наступившей темноте,
А, может быть, почудилось мне это —
Сарьян на простыне, как на холсте,
Писал эскиз последнего портрета.
Кайсын Кулиев умер…
Нет, погиб
В неравной схватке с собственной судьбою.
Не траурный мотив, державный гимн
Пускай звучит над каменной плитою.
И если скажут вам, Кайсына нет,
Не верьте обывательскому вздору.
Чтоб во весь рост создать его портрет,
Нам нужен холст снегов, укрывший горы.
Друзья мои — Давид, Мустай, Алим,
Я вас прошу, поближе подойдите
Не для того, чтобы проститься с ним,
В залог слезу оставив на граните.
Балкария, пускай ушел твой сын
Туда, откуда нет пути обратно…
Но закричи призывное:
— Кайсы-ы-ы-н! —
Он отзовется эхом многократным.
Когда весной растает снег на крыше...
Когда весной растает снег на крыше,
Когда зарядят дружные дожди,
Я звук знакомый в комнате услышу:
Кап-кап, кап-кап — как у меня в груди.
Ах, эти капли память растревожат…
Я вижу: мама на пол ставит таз –
И целый день звучит одно и то же:
Кап-кап, кап-кап — уже в который раз.
Пусть музыка дождя полна печали,
Но под нее в былые времена
Мы умиротворенно засыпали:
Кап-кап, кап-кап – звенело, как струна.
Порой проспишь — на половицах лужа:
Таз переполнен и кувшин потек…
Кап-кап, кап-кап — к зиме, пожалуй, нужно
Перебелить замшелый потолок.
Я вспоминаю вновь картину эту,
Когда сжимает сердце мне беда,
Когда от взрывов ежится планета:
Кап-кап, кап-кап — то кровь, а не вода.
Я вижу матерей от слез незрячих,
Их горечи стихами не унять.
Кап-кап, кап-кап — мир переполнен плачем…
Неужто, люди, я проспал опять?
Когда весной растает снег на крыше,
Когда зарядят дружные дожди,
Я звук знакомый в комнате услышу:
Кап-кап, кап-кап — как у меня в груди.
Ах, эти капли память растревожат…
Я вижу: мама на пол ставит таз –
И целый день звучит одно и то же:
Кап-кап, кап-кап — уже в который раз.
Пусть музыка дождя полна печали,
Но под нее в былые времена
Мы умиротворенно засыпали:
Кап-кап, кап-кап – звенело, как струна.
Порой проспишь — на половицах лужа:
Таз переполнен и кувшин потек…
Кап-кап, кап-кап — к зиме, пожалуй, нужно
Перебелить замшелый потолок.
Я вспоминаю вновь картину эту,
Когда сжимает сердце мне беда,
Когда от взрывов ежится планета:
Кап-кап, кап-кап — то кровь, а не вода.
Я вижу матерей от слез незрячих,
Их горечи стихами не унять.
Кап-кап, кап-кап — мир переполнен плачем…
Неужто, люди, я проспал опять?
Перемены
Дождь то льет, то затихает,
То совсем перестает…
Нам природа изменяет
Безнадежно круглый год.
День то плачет, то смеется,
Будто малое дитя.
И заигрывает солнце,
Из-за тучи выходя.
Мне оно напоминает
Тех людей, что без конца
Наспех должности меняют,
Мысли, чувства и сердца.
Туча со звериным рыком
Мечется на небесах —
Я ее сравнил бы с рынком,
Где цена растет, как сад.
Покачав косматой гривой,
Расширяется она,
Гордо и неторопливо
Нарастает, как волна.
И осенний день, как поезд,
Ускользает в полумрак…
Только дождь, как чья-то повесть
Не кончается никак.
Я звоню из автомата…
— Занят, — Мне в ответ бубнят…
Все торопятся куда-то
Без оглядки наугад.
Словно в интересном месте
Обрывается кино…
Никого, наверно, здесь мне
Отыскать не суждено.
С кем под дождик этот серый
Мог бы душу отвести
И раскрыть, как книгу, сердце,
Где написан лучший стих.
Даже слово — то, что в муках
Отыскал наверняка,
Ускользает, точно щука
Из рыбацкого садка.
Наважденье это что ли?..
Дождь в окно мое стучит
Головной несносной болью,
Для которой сто причин.
И когда свои печали
Я не в силах скрыть уже —
Ты, как музыка, нечаянно
Прикасаешься к душе.
Дождь то льет, то затихает,
То совсем перестает…
Нам природа изменяет
Безнадежно круглый год.
День то плачет, то смеется,
Будто малое дитя.
И заигрывает солнце,
Из-за тучи выходя.
Мне оно напоминает
Тех людей, что без конца
Наспех должности меняют,
Мысли, чувства и сердца.
Туча со звериным рыком
Мечется на небесах —
Я ее сравнил бы с рынком,
Где цена растет, как сад.
Покачав косматой гривой,
Расширяется она,
Гордо и неторопливо
Нарастает, как волна.
И осенний день, как поезд,
Ускользает в полумрак…
Только дождь, как чья-то повесть
Не кончается никак.
Я звоню из автомата…
— Занят, — Мне в ответ бубнят…
Все торопятся куда-то
Без оглядки наугад.
Словно в интересном месте
Обрывается кино…
Никого, наверно, здесь мне
Отыскать не суждено.
С кем под дождик этот серый
Мог бы душу отвести
И раскрыть, как книгу, сердце,
Где написан лучший стих.
Даже слово — то, что в муках
Отыскал наверняка,
Ускользает, точно щука
Из рыбацкого садка.
Наважденье это что ли?..
Дождь в окно мое стучит
Головной несносной болью,
Для которой сто причин.
И когда свои печали
Я не в силах скрыть уже —
Ты, как музыка, нечаянно
Прикасаешься к душе.
Люблю я робкий миг первоначальный...
Люблю я робкий миг первоначальный,
Когда восходит солнце из-за гор…
И ветер, кроны сонные качая,
С природой затевает разговор.
Люблю костер, зажженный на поляне.
И самый первый в жизни сенокос.
И фильм, который наш киномеханик
В аульский клуб из города привез.
Люблю зимой бодрящий первопуток,
Когда, как снег, все помыслы чисты.
Люблю гортанный клекот диких уток
И вешний праздник первой борозды.
И первый шаг от отчего порога
В столицу, что впервые увидал.
И первозданный гнев морского бога,
Швыряющего волны на причал.
И незакатный тот далекий вечер
В Гунибе среди девственных берез,
Когда, накинув шаль тебе на плечи,
Я первое признанье произнес.
Люблю и тот апрель: когда в эфире
Послышался взволнованный сигнал
И первый космонавт в подлунном мире;
— Поехали… — застенчиво сказал.
Всего ж сильней люблю я величавый
Простой напев народа моего…
Хоть сладок фимиам столичной славы,
Мне горький дым Цада милей его.
Люблю я робкий миг первоначальный,
Когда восходит солнце из-за гор…
И ветер, кроны сонные качая,
С природой затевает разговор.
Люблю костер, зажженный на поляне.
И самый первый в жизни сенокос.
И фильм, который наш киномеханик
В аульский клуб из города привез.
Люблю зимой бодрящий первопуток,
Когда, как снег, все помыслы чисты.
Люблю гортанный клекот диких уток
И вешний праздник первой борозды.
И первый шаг от отчего порога
В столицу, что впервые увидал.
И первозданный гнев морского бога,
Швыряющего волны на причал.
И незакатный тот далекий вечер
В Гунибе среди девственных берез,
Когда, накинув шаль тебе на плечи,
Я первое признанье произнес.
Люблю и тот апрель: когда в эфире
Послышался взволнованный сигнал
И первый космонавт в подлунном мире;
— Поехали… — застенчиво сказал.
Всего ж сильней люблю я величавый
Простой напев народа моего…
Хоть сладок фимиам столичной славы,
Мне горький дым Цада милей его.
Я и сам, конечно, пес из псов...
Я и сам, конечно, пес из псов,
Но покорным никогда не стану…
Лишь один мне дорог в мире зов –
Моего родного Дагестана.
Как услышу посвист отчих гор,
Так любой барьер преодолею.
Только с ними славу и позор
Разделить я поровну сумею.
Никому я не принадлежу,
Не ищу поддержки злобной стаи.
Днем покой любимой сторожу,
Ночью сон ребенка охраняю.
Дня меня не сыщется цепей
Ни простых, ни золотых тем боле.
Пусть в хозяйском доме веселей –
Я предпочитаю жить на воле.
Запирайте души на засов.
Сторожите двери неустанно…
Я и сам, конечно, пес из псов,
Но из тех, кто служит Дагестану.
Я и сам, конечно, пес из псов,
Но покорным никогда не стану…
Лишь один мне дорог в мире зов –
Моего родного Дагестана.
Как услышу посвист отчих гор,
Так любой барьер преодолею.
Только с ними славу и позор
Разделить я поровну сумею.
Никому я не принадлежу,
Не ищу поддержки злобной стаи.
Днем покой любимой сторожу,
Ночью сон ребенка охраняю.
Дня меня не сыщется цепей
Ни простых, ни золотых тем боле.
Пусть в хозяйском доме веселей –
Я предпочитаю жить на воле.
Запирайте души на засов.
Сторожите двери неустанно…
Я и сам, конечно, пес из псов,
Но из тех, кто служит Дагестану.
Надпись на книге, подаренной Джаминат Керимовой
Джаминат, в Японии вишневой,
В госпитале давнею весной
Встретил я японца пожилого
В изголовье дочери больной.
За окном палаты Хиросима
Розовою сакурой цвела,
А в глазах отца невыносимо
Боль испепеляла все дотла.
Он сказал, что в молодости тоже
Сочинял когда-то горячо…
Но стихами горю не поможешь,
Потому решил он стать врачом.
Джаминат, цветок равнины хрупкий,
Почему при встрече, без конца,
Когда ты протягиваешь руку,
Вспоминаю вдруг того отца?..
Я не маг, не доктор умудренный,
Не дают молиться мне грехи,
Но пускай коленопреклоненно
К Богу припадут мои стихи.
И, взмолившись каждою страницей,
Выпросят пусть лучший из даров,
Чтоб из крыл кумыкской певчей птицы
Не упало ни одно перо.
Джаминат, в Японии вишневой,
В госпитале давнею весной
Встретил я японца пожилого
В изголовье дочери больной.
За окном палаты Хиросима
Розовою сакурой цвела,
А в глазах отца невыносимо
Боль испепеляла все дотла.
Он сказал, что в молодости тоже
Сочинял когда-то горячо…
Но стихами горю не поможешь,
Потому решил он стать врачом.
Джаминат, цветок равнины хрупкий,
Почему при встрече, без конца,
Когда ты протягиваешь руку,
Вспоминаю вдруг того отца?..
Я не маг, не доктор умудренный,
Не дают молиться мне грехи,
Но пускай коленопреклоненно
К Богу припадут мои стихи.
И, взмолившись каждою страницей,
Выпросят пусть лучший из даров,
Чтоб из крыл кумыкской певчей птицы
Не упало ни одно перо.
Кружится снег в подлунном мире…
Кружится снег в подлунном мире…
А жизнь до горечи мала.
Сверкнет она огнем в камине
И поседеет, как зола.
— Обиды не носи с собою
И с другом примирись сполна. —
Такую музыку порою
Наигрывает чагана .
Но я молчу…
И вы молчите,
Расстроенные струны дней.
Мой поезд все быстрее мчится
К последней станции своей.
Я мировую выпью с другом.
Но что изменится, когда
Опять по замкнутому кругу
Помчатся дружба и вражда?..
Нет, не смирится песня с визгом,
Заполонившим белый свет,
И не унизится до свиста
Эстрадной прихоти поэт.
Как Феникс,
Вновь воскреснет вера,
И не убавится талант.
Что мне до щупальцев карьеры,
Ведь жизнь до горечи мала.
Пускай искусство на подделку
Еще меняют иногда…
Что толку склеивать тарелку —
В ней не удержится вода.
И сердце склеить невозможно:
Коль сквозь него сочится боль
О тех, кто ставил мне подножку
И сыпал мне на рану соль.
Но если этого им мало,
Пусть поторопятся, пока
Еще мне время не настало —
Ведь жизнь обидно коротка.
И все же, как огонь в камине,
Горит любовь в душе моей…
А снег идет в подлунном мире
Все беспокойней и сильней.
Уже не этой ли порошей
Заметена моя весна?..
Прошу тебя —
Не пой о прошлом
Так безысходно, чагана.
Иную музыку я слышу,
Ту, от которой не устал.
Она всего на свете выше,
Как наша совесть, Дагестан!
Кружится снег в подлунном мире…
А жизнь до горечи мала.
Сверкнет она огнем в камине
И поседеет, как зола.
— Обиды не носи с собою
И с другом примирись сполна. —
Такую музыку порою
Наигрывает чагана .
Но я молчу…
И вы молчите,
Расстроенные струны дней.
Мой поезд все быстрее мчится
К последней станции своей.
Я мировую выпью с другом.
Но что изменится, когда
Опять по замкнутому кругу
Помчатся дружба и вражда?..
Нет, не смирится песня с визгом,
Заполонившим белый свет,
И не унизится до свиста
Эстрадной прихоти поэт.
Как Феникс,
Вновь воскреснет вера,
И не убавится талант.
Что мне до щупальцев карьеры,
Ведь жизнь до горечи мала.
Пускай искусство на подделку
Еще меняют иногда…
Что толку склеивать тарелку —
В ней не удержится вода.
И сердце склеить невозможно:
Коль сквозь него сочится боль
О тех, кто ставил мне подножку
И сыпал мне на рану соль.
Но если этого им мало,
Пусть поторопятся, пока
Еще мне время не настало —
Ведь жизнь обидно коротка.
И все же, как огонь в камине,
Горит любовь в душе моей…
А снег идет в подлунном мире
Все беспокойней и сильней.
Уже не этой ли порошей
Заметена моя весна?..
Прошу тебя —
Не пой о прошлом
Так безысходно, чагана.
Иную музыку я слышу,
Ту, от которой не устал.
Она всего на свете выше,
Как наша совесть, Дагестан!
- Тень
- Раздумья над новым стихотворением
- Старым друзьям
- Когда ушли гости
- Оседланный конь ждет меня у подножья...
- Молодому поэту
- Камиль Даниялович, друг мой старинный
- Работа
- Махмуд, хоть век недолог твой...
- Пора уже довольствоваться малым
- Говорят, земная жизнь подобна...
- Чунгур Сулеймана
- Надпись на книге, подаренной Магомеду Омарову
- Надпись на книге, подаренной Хизгилу Авшалумову
- Лев, лежа в логове, дичь не убьет...
- Я не старик еще, но все же...
Тень
Тень ни любви не знает, ни вражды
И от работы не изнемогает.
Тень не боится вечной мерзлоты
И в пламени внезапном не сгорает.
Глухонемой — ей песня не нужна.
Незрячей — ей неведомо прозренье.
Бесплотная — не чувствует она
Мучительную дрожь землетрясенья.
Тень — сирота без близких и родных,
И детский смех ей противопоказан.
Но все же она бродит средь живых
И разъедает души, как проказа.
Такой актрисы мир еще не знал,
Копирующей мимику и жесты.
Она гипнотизирует весь зал
Своим талантом к перемене места.
А зрители под действием его
Лишаются и воли, и сомнений —
И незаметно все до одного
Становятся покорными, как тени.
Прикажут им — кивают головой,
Единогласно руки поднимая…
Поманят их — бесформенной толпой
Несутся, друг на друга наступая.
И у стихов есть тени-близнецы…
Давным-давно постиг я их повадки —
Они плетут терновые венцы
И с правдою, шутя, играют в прятки.
Их невозможно даже пнуть ногой,
Они всегда в тени, всегда в засаде:
Скрываются за каждою строкой,
Охотятся за каждою тетрадью.
Я вездесущность их не выношу,
Не принимаю гибкости беспечной,
И потому на выборах прошу
Лишить их права голоса навечно.
Чтоб чистоту завещанных идей
Угодничество их не запятнало…
Пусть тени будут только у ветвей,
Склонившихся над путником усталым.
Тень ни любви не знает, ни вражды
И от работы не изнемогает.
Тень не боится вечной мерзлоты
И в пламени внезапном не сгорает.
Глухонемой — ей песня не нужна.
Незрячей — ей неведомо прозренье.
Бесплотная — не чувствует она
Мучительную дрожь землетрясенья.
Тень — сирота без близких и родных,
И детский смех ей противопоказан.
Но все же она бродит средь живых
И разъедает души, как проказа.
Такой актрисы мир еще не знал,
Копирующей мимику и жесты.
Она гипнотизирует весь зал
Своим талантом к перемене места.
А зрители под действием его
Лишаются и воли, и сомнений —
И незаметно все до одного
Становятся покорными, как тени.
Прикажут им — кивают головой,
Единогласно руки поднимая…
Поманят их — бесформенной толпой
Несутся, друг на друга наступая.
И у стихов есть тени-близнецы…
Давным-давно постиг я их повадки —
Они плетут терновые венцы
И с правдою, шутя, играют в прятки.
Их невозможно даже пнуть ногой,
Они всегда в тени, всегда в засаде:
Скрываются за каждою строкой,
Охотятся за каждою тетрадью.
Я вездесущность их не выношу,
Не принимаю гибкости беспечной,
И потому на выборах прошу
Лишить их права голоса навечно.
Чтоб чистоту завещанных идей
Угодничество их не запятнало…
Пусть тени будут только у ветвей,
Склонившихся над путником усталым.
Раздумья над новым стихотворением
День завтрашний…
Когда же он наступит?
Не рухнет ли попутчиков стена?..
В кольце желаний дерзких, как поступки,
И эта ночь короткая длинна.
О, сколько кропотливого таланта
Вложила в перстень мастера рука!
Так и в душе, как в гранях бриллианта
Сверкают лица, судьбы и века.
Где мама — безнадежная, как горе,
И где невеста — девственный цветок?..
Как лодка, затерявшаяся в море,
Как Одиссей, я так же одинок.
Морская пена кровь мою впитала
И в полночь челн брала на абордаж,
Но только от последнего причала
Его хранит бессмертный экипаж…
… Убитые и канувшие в вечность
Герои всех народов и времен
Встают и оживают, и навстречу
Решительно спешат со всех сторон.
Вновь из пучины сумрачного Эго,
Сияя первозданной чистотой,
Потерянная Богом, словно эхо,
Всплывает Атлантида над водой.
И скорбная земля Святой Елены,
Где пленник знаменитый угасал,
В тот миг, когда склоняю я колено,
Мне салютует черным блеском скал.
И остров Крит изяществом порталов
Своих дворцов манит издалека…
Как будто бы еще не прикасалась
К их совершенству варвара рука.
Так тянется воспоминаний лента
Картины черно-белой, будто жизнь.
Так тикают часы во тьме вселенной.
Так возникают ночью миражи.
… Но вот уже заря зарделась ало,
И Дагестана славного певец,
Я гордо поднимаю покрывало,
Чтоб показать невесту, наконец.
День завтрашний…
Когда же он наступит?
Не рухнет ли попутчиков стена?..
В кольце желаний дерзких, как поступки,
И эта ночь короткая длинна.
О, сколько кропотливого таланта
Вложила в перстень мастера рука!
Так и в душе, как в гранях бриллианта
Сверкают лица, судьбы и века.
Где мама — безнадежная, как горе,
И где невеста — девственный цветок?..
Как лодка, затерявшаяся в море,
Как Одиссей, я так же одинок.
Морская пена кровь мою впитала
И в полночь челн брала на абордаж,
Но только от последнего причала
Его хранит бессмертный экипаж…
… Убитые и канувшие в вечность
Герои всех народов и времен
Встают и оживают, и навстречу
Решительно спешат со всех сторон.
Вновь из пучины сумрачного Эго,
Сияя первозданной чистотой,
Потерянная Богом, словно эхо,
Всплывает Атлантида над водой.
И скорбная земля Святой Елены,
Где пленник знаменитый угасал,
В тот миг, когда склоняю я колено,
Мне салютует черным блеском скал.
И остров Крит изяществом порталов
Своих дворцов манит издалека…
Как будто бы еще не прикасалась
К их совершенству варвара рука.
Так тянется воспоминаний лента
Картины черно-белой, будто жизнь.
Так тикают часы во тьме вселенной.
Так возникают ночью миражи.
… Но вот уже заря зарделась ало,
И Дагестана славного певец,
Я гордо поднимаю покрывало,
Чтоб показать невесту, наконец.
Лев, лежа в логове, дичь не убьет.
Трусу булатная сталь не нужна.
Ряской зловонной вода зарастет,
Если стоит без движенья она.
Трусу булатная сталь не нужна.
Ряской зловонной вода зарастет,
Если стоит без движенья она.
Старым друзьям
Друзья мои старые, я не хочу
Поверить в безумие ваше…
Ведь если и я, оробев, промолчу,
Никто больше правды не скажет.
Коль бедная кляча свой срок отживет,
Хозяин ослабит подпругу.
Да, что говорить,
Дикий лебедь — и тот,
В беде не оставит подругу.
Он вскормит птенцов желторотых своих,
Научит летать их высоко…
Об этом расскажут вам лучше, чем стих,
Прибрежный камыш и осока.
А вы, потерявшие разум и стыд,
Покинули дом без волненья.
Как камень надгробный, очаг ваш остыл
А как в нем трещали поленья!
Но разве состарили женщин родных
Не ваши грехи и ошибки,
Которые честно они на двоих
Делили с покорной улыбкой?
И эти-то руки, что вас уберечь
Могли от любого дурмана,
Сегодня небрежно вы сбросили с плеч,
Как сор с пиджаков иностранных.
Друзья мои старые, я не хочу
Поверить в безумие ваше…
Ведь если и я, оробев, промолчу,
Никто больше правда не скажет.
Когда вы в атаку по тонкому льду
Бежали, звеня орденами,
И в смертном бреду,
И в кровавом поту
Не их ли клялись именами?
А где-то в тылу на работе мужской
Они без упреков и жалоб
От доли лихой, от могилы сырой
Хранили ребят ваших малых.
Когда же стихи тяжких лет фронтовых
Вам добрую славу снискали,
Вы вдруг позабыли тех женщин седых,
Что в юности вас вдохновляли.
Опасен успех, как лавина в горах,
Заманчивы юные лица…
Они отражаются в ваших глазах,
Мелькают на ваших страницах.
И вот уже снежный предательский ком
Несется по склону с разбега,
Сметая и память, и совесть, и дом —
Лишь стекла торчат из-под снега.
Разбился навек драгоценный сосуд,
Лет сорок не знавший угрозы.
И только по темным морщинам текут
Скупые холодные слезы…
Пусть муза устала и стала больной,
Но вспомните — в простеньком ситце
Она прибегала полночной порой,
Бесшумно листая страницы.
То ярко сияла, как будто звезда.
То робко, как свечка, светила.
В чернильницах ваших при ней никогда
Не пересыхали чернила.
А новая вихрем джинсовым влетит,
Наделает шума и гама.
Неоновым светом стихи озарит,
Слепящим, как эпиталама.
Друзья мои старые, я не хочу
Поверить в безумие ваше…
Ведь, если и я, оробев, промолчу,
Никто больше правды не скажет.
Вы губы кривите и морщите лбы —
Мол, в дело чужое не суйся.
Мол, это не прихоть,
А выбор судьбы,
Что чувства, как карты, тасует.
Мол, вещи и деньги, квартиру и сад
Мы бывшим оставили честно…
А кто и насколько во всем виноват
Теперь разбирать неуместно.
… Ах, как вы гордитесь своей прямотой,
Своим благородством упрямым.
Спешите в театр с красивой женой,
Как будто с ходячей рекламой.
Но те, кого вы не водили туда,
Вас не осуждают, ей-богу.
Хоть вы и сбежали трусливо, когда
Зима подступила к порогу.
Живут себе тихо, а не напоказ,
Предчувствием тягостным мучась:
А что, коль нежданно-негаданно вас
Постигнет такая же участь?
Друзья мои старые, я не хочу
Поверить в безумие ваше…
Ведь если и я, оробев, промолчу,
Никто больше правды не скажет.
А, впрочем, приятели, Бог вам судья —
Утешьтесь последней любовью!
Но если бы смерть подступила моя
И встала бы у изголовья.
Как вешенский тот знаменитый казак,
Великий мудрец и писатель,
Я смерти бы на ухо тихо сказал:
— А-ну, отойди от кровати…
Позволь напоследок увидеть жену,
Мне данную раз и навеки.
К горячей ладони губами прильнуть,
Вздохнуть…
И закрыть свои веки.
Друзья мои старые, я не хочу
Поверить в безумие ваше…
Ведь если и я, оробев, промолчу,
Никто больше правды не скажет.
Коль бедная кляча свой срок отживет,
Хозяин ослабит подпругу.
Да, что говорить,
Дикий лебедь — и тот,
В беде не оставит подругу.
Он вскормит птенцов желторотых своих,
Научит летать их высоко…
Об этом расскажут вам лучше, чем стих,
Прибрежный камыш и осока.
А вы, потерявшие разум и стыд,
Покинули дом без волненья.
Как камень надгробный, очаг ваш остыл
А как в нем трещали поленья!
Но разве состарили женщин родных
Не ваши грехи и ошибки,
Которые честно они на двоих
Делили с покорной улыбкой?
И эти-то руки, что вас уберечь
Могли от любого дурмана,
Сегодня небрежно вы сбросили с плеч,
Как сор с пиджаков иностранных.
Друзья мои старые, я не хочу
Поверить в безумие ваше…
Ведь если и я, оробев, промолчу,
Никто больше правда не скажет.
Когда вы в атаку по тонкому льду
Бежали, звеня орденами,
И в смертном бреду,
И в кровавом поту
Не их ли клялись именами?
А где-то в тылу на работе мужской
Они без упреков и жалоб
От доли лихой, от могилы сырой
Хранили ребят ваших малых.
Когда же стихи тяжких лет фронтовых
Вам добрую славу снискали,
Вы вдруг позабыли тех женщин седых,
Что в юности вас вдохновляли.
Опасен успех, как лавина в горах,
Заманчивы юные лица…
Они отражаются в ваших глазах,
Мелькают на ваших страницах.
И вот уже снежный предательский ком
Несется по склону с разбега,
Сметая и память, и совесть, и дом —
Лишь стекла торчат из-под снега.
Разбился навек драгоценный сосуд,
Лет сорок не знавший угрозы.
И только по темным морщинам текут
Скупые холодные слезы…
Пусть муза устала и стала больной,
Но вспомните — в простеньком ситце
Она прибегала полночной порой,
Бесшумно листая страницы.
То ярко сияла, как будто звезда.
То робко, как свечка, светила.
В чернильницах ваших при ней никогда
Не пересыхали чернила.
А новая вихрем джинсовым влетит,
Наделает шума и гама.
Неоновым светом стихи озарит,
Слепящим, как эпиталама.
Друзья мои старые, я не хочу
Поверить в безумие ваше…
Ведь, если и я, оробев, промолчу,
Никто больше правды не скажет.
Вы губы кривите и морщите лбы —
Мол, в дело чужое не суйся.
Мол, это не прихоть,
А выбор судьбы,
Что чувства, как карты, тасует.
Мол, вещи и деньги, квартиру и сад
Мы бывшим оставили честно…
А кто и насколько во всем виноват
Теперь разбирать неуместно.
… Ах, как вы гордитесь своей прямотой,
Своим благородством упрямым.
Спешите в театр с красивой женой,
Как будто с ходячей рекламой.
Но те, кого вы не водили туда,
Вас не осуждают, ей-богу.
Хоть вы и сбежали трусливо, когда
Зима подступила к порогу.
Живут себе тихо, а не напоказ,
Предчувствием тягостным мучась:
А что, коль нежданно-негаданно вас
Постигнет такая же участь?
Друзья мои старые, я не хочу
Поверить в безумие ваше…
Ведь если и я, оробев, промолчу,
Никто больше правды не скажет.
А, впрочем, приятели, Бог вам судья —
Утешьтесь последней любовью!
Но если бы смерть подступила моя
И встала бы у изголовья.
Как вешенский тот знаменитый казак,
Великий мудрец и писатель,
Я смерти бы на ухо тихо сказал:
— А-ну, отойди от кровати…
Позволь напоследок увидеть жену,
Мне данную раз и навеки.
К горячей ладони губами прильнуть,
Вздохнуть…
И закрыть свои веки.
Когда ушли гости
Один я остался в квартире пустой —
Друзья разошлись, попрощавшись со мной…
И друг мой любимый унес, как на грех,
Гитару свою и раскатистый смех.
И в доме напротив погасли огни,
Все разом — как будто устали они.
А я, как ни странно, и бодр и без сна
Готов до рассвета стоять у окна.
И вновь вспоминать до пустых мелочей
Всю глупость и мудрость застольных речей:
И кто с кем шептался, не тронув бокал,
И кто минеральной вино разбавлял.
И кто, не дослушавши тост тамады,
К тому же не будучи другом воды,
Спешил поскорей опрокинуть стакан
И снова наполнить, покуда не пьян.
Ах, как удивительно вечер прошел!
Не знаю я — плохо или хорошо?
Но что бы там ни было, жаль мне сейчас
По комнате скучной слоняться без вас.
Друзья мои верные, пусть никогда
Не лазал я с вами по скалам Цада
В Москве не делил ни угла, ни гроша,
И руку впервые кому-то пожал.
Вы все одинаково дороги мне,
Как братья, оставшиеся на войне…
Товарищ старинный и юный, и тот,
Кого только завтра судьба ниспошлет.
Поэтому горько мне думать теперь,
Что рано закрылась парадная дверь
И даже любимый мой друг, как на грех,
Со мной не простившись, ушел раньше всех.
Один я остался в квартире пустой —
Друзья разошлись, попрощавшись со мной…
И друг мой любимый унес, как на грех,
Гитару свою и раскатистый смех.
И в доме напротив погасли огни,
Все разом — как будто устали они.
А я, как ни странно, и бодр и без сна
Готов до рассвета стоять у окна.
И вновь вспоминать до пустых мелочей
Всю глупость и мудрость застольных речей:
И кто с кем шептался, не тронув бокал,
И кто минеральной вино разбавлял.
И кто, не дослушавши тост тамады,
К тому же не будучи другом воды,
Спешил поскорей опрокинуть стакан
И снова наполнить, покуда не пьян.
Ах, как удивительно вечер прошел!
Не знаю я — плохо или хорошо?
Но что бы там ни было, жаль мне сейчас
По комнате скучной слоняться без вас.
Друзья мои верные, пусть никогда
Не лазал я с вами по скалам Цада
В Москве не делил ни угла, ни гроша,
И руку впервые кому-то пожал.
Вы все одинаково дороги мне,
Как братья, оставшиеся на войне…
Товарищ старинный и юный, и тот,
Кого только завтра судьба ниспошлет.
Поэтому горько мне думать теперь,
Что рано закрылась парадная дверь
И даже любимый мой друг, как на грех,
Со мной не простившись, ушел раньше всех.
Оседланный конь ждет меня у подножья...
Оседланный конь ждет меня у подножья,
Готовый своей подчиниться судьбе…
Пускай я умру раньше срока,
Но все же
Взберусь на вершину по скользкой тропе.
Смоленая лодка стоит у причала,
И парус напрягся, как мускул тугой…
Пускай я погибну,
Но все же сначала
Я в ней переправлюсь на берег другой.
Былой мореплаватель Васко да Гама
Открыл континент не для братской любви —
На тропах звериных
И в нищих вигвамах
Еще не засохли подтеки крови.
Но я был рожден для открытья иного:
Чтоб птица и зверь,
И прохожий любой
Откликнулись разом на доброе слово,
Забыв на мгновение жгучую боль.
Оседланный конь ждет меня у подножья,
Готовый своей подчиниться судьбе…
Пускай я умру раньше срока,
Но все же
Взберусь на вершину по скользкой тропе.
Смоленая лодка стоит у причала,
И парус напрягся, как мускул тугой…
Пускай я погибну,
Но все же сначала
Я в ней переправлюсь на берег другой.
Былой мореплаватель Васко да Гама
Открыл континент не для братской любви —
На тропах звериных
И в нищих вигвамах
Еще не засохли подтеки крови.
Но я был рожден для открытья иного:
Чтоб птица и зверь,
И прохожий любой
Откликнулись разом на доброе слово,
Забыв на мгновение жгучую боль.
Молодому поэту
Мой юный друг,
За прежние грехи
В наставники я попаду едва ли…
Но помни — не рождаются стихи
В душе, где нет и отзвука печали.
Я оптимизму искреннему рад,
/Сам должное отдал ему с лихвою/.
Но саван, как и свадебный наряд,
В горах одной и той же шьют иглою.
Поверь…
Я знаю это не из книг —
Что по пятам за счастьем ходит горе.
Что солнце, пробудившее родник,
Рождает реку, хлынувшую в море.
Воспой любовь крылатою строкой,
Но не забудь поставить многоточье…
В груди того, кому претит покой,
С любовью рядом ненависть клокочет.
Не торопи перо, как скакуна,
Чтоб из седла не выпасть ненароком.
Не пей недобродившего вина
И плод незрелый без нужды не трогай.
Мой юный друг,
За прежние грехи
В наставники я попаду едва ли…
Но помни — не рождаются стихи
В душе, где нет и отзвука печали.
Я оптимизму искреннему рад,
/Сам должное отдал ему с лихвою/.
Но саван, как и свадебный наряд,
В горах одной и той же шьют иглою.
Поверь…
Я знаю это не из книг —
Что по пятам за счастьем ходит горе.
Что солнце, пробудившее родник,
Рождает реку, хлынувшую в море.
Воспой любовь крылатою строкой,
Но не забудь поставить многоточье…
В груди того, кому претит покой,
С любовью рядом ненависть клокочет.
Не торопи перо, как скакуна,
Чтоб из седла не выпасть ненароком.
Не пей недобродившего вина
И плод незрелый без нужды не трогай.
Камиль Даниялович, друг мой старинный...
Камиль Даниялович, друг мой старинный,
Сказал мне однажды, вздохнув тяжело,
Что молодость нашу,
Как будто лавину,
Палящее солнце с вершины смело.
Что зрелость в никчемных прошла разговорах,
В пустой трескотне телефонных звонков.
Что время бесценное
Мы, точно воры,
Украли у будущих наших стихов.
Что те, кого мы горячо обнимали,
Пленяясь цветущею юностью их,
Негаданно дряхлыми вдовами стали
С неровным оскалом зубов золотых.
Он мне говорил, головою качая,
Что прав был Махмуд,
Написавший о том —
Как в спешке ослицу хромую, седлая,
Мы путаем часто с лихим скакуном.
Камиль Даниялович, друг мой сердечный,
Я с мнением этим поспорить готов:
Ни жизнь, ни любовь, ни случайные встречи
Не канули в бурном потоке годов.
И разве кого-нибудь стих наш обманет,
В который мы кровь перелили свою?..
Когда он был найден в нагрудном кармане
Солдата, погибшего в правом бою.
Пускай наши стрелы не все до единой
Попали, Камиль, в золотое кольцо…
Но, небо свидетель —
Хотя б половина
Его поразила в конце-то концов.
Нам трудное время досталось с тобою,
Где все получалось с грехом пополам.
Но только и мы увезли под полою
Гордячек красивых, подобно Марьям.
Камиль Даниялович, друг мой любезный,
Прошу тебя —
С горечью не повторяй:
Что молодость наша была бесполезной
И зрелость напрасно лилась через край.
Мы этой земле не дарили по крохам
Ни дружбу, ни ярость,
Ни злость, ни любовь!
Так значит достойная нашей эпохи
В сердцах клокотала горячая кровь.
Камиль Даниялович, друг мой старинный,
Сказал мне однажды, вздохнув тяжело,
Что молодость нашу,
Как будто лавину,
Палящее солнце с вершины смело.
Что зрелость в никчемных прошла разговорах,
В пустой трескотне телефонных звонков.
Что время бесценное
Мы, точно воры,
Украли у будущих наших стихов.
Что те, кого мы горячо обнимали,
Пленяясь цветущею юностью их,
Негаданно дряхлыми вдовами стали
С неровным оскалом зубов золотых.
Он мне говорил, головою качая,
Что прав был Махмуд,
Написавший о том —
Как в спешке ослицу хромую, седлая,
Мы путаем часто с лихим скакуном.
Камиль Даниялович, друг мой сердечный,
Я с мнением этим поспорить готов:
Ни жизнь, ни любовь, ни случайные встречи
Не канули в бурном потоке годов.
И разве кого-нибудь стих наш обманет,
В который мы кровь перелили свою?..
Когда он был найден в нагрудном кармане
Солдата, погибшего в правом бою.
Пускай наши стрелы не все до единой
Попали, Камиль, в золотое кольцо…
Но, небо свидетель —
Хотя б половина
Его поразила в конце-то концов.
Нам трудное время досталось с тобою,
Где все получалось с грехом пополам.
Но только и мы увезли под полою
Гордячек красивых, подобно Марьям.
Камиль Даниялович, друг мой любезный,
Прошу тебя —
С горечью не повторяй:
Что молодость наша была бесполезной
И зрелость напрасно лилась через край.
Мы этой земле не дарили по крохам
Ни дружбу, ни ярость,
Ни злость, ни любовь!
Так значит достойная нашей эпохи
В сердцах клокотала горячая кровь.
Работа
I
Терпение покинуло мой дом…
А тот, кому я верил, как себе,
Расставив сети — скрылся за кустом,
Доверившись охотничьей судьбе.
И недруг старый вылез из норы
В неподходящем месте, как назло.
И конь мой добрый выбыл из игры
И потерял уздечку и седло.
Да и жена ввязалась в ближний бой,
Бессмысленный, как жизненный пустяк,
Где все равно победа не за мной,
Хоть атакуй, хоть выбрось белый флаг.
Тогда я хлопнуть дверью захотел,
Пальто набросить, мелочью звеня,
И убежать туда от важных дел,
Где никому нет дела до меня.
Хоть на Чукотку, хоть на Колыму…
На Крайний Север, Дальний ли Восток
Куда-нибудь, где, судя по всему,
Я так, как здесь, не буду одинок.
Но пыл погас… И уходящий день,
Увидев, что я тяжко занемог,
Мне прописал бесчувственную лень,
Как будто врач снотворный порошок.
Я долго спал…Потом глазел в окно.
Не брился и журналов не читал.
Хоть дождь, хоть снег — мне было все равно,
Что телеясновидец предсказал.
Я с влагою искристой и хмельной
Беседовал, как с другом, но она
Убила суть отравленной стрелой,
Лишив меня спасительного сна.
Казалось обо мне забыл весь свет…
Стихи, молчите! Карандаш, замри!
Хотя я жил не так уж много лет,
Но что-то надломилось изнутри.
Сковал недуг мучительный меня…
О, музыка!..
Твой звездный час истек.
И все же дай погреться у огня,
Переступая жизненный порог.
II
Но жизнь расхохоталась надо мной:
Мол, ты забыл добро в плену невзгод.
Да надо ль отправляться в мир иной,
Коль в этом мире дел невпроворот?
Встряхнись, побрейся — окна распахни!
Возьми бумагу, перья отточи…
В пыль превратятся каменные дни,
И музыка былая зазвучит.
… И пальцы снова стиснули перо,
Как злой клинок отважная рука.
На белый лист, как чернь на серебро,
Легла, быть может, лучшая строка.
От напряженья страх мой побледнел,
Как на заре ущербная луна.
И на столе осталась не удел
Бутылка чужеземного вина.
Забыл я про чукотские снега…
Да что они? Не нужен мне Мадрид!
И здесь быка схвачу я за рога,
Каким бы грозным не был он на вид.
Пусть хороши Камбоджа и Непал —
Моя не закружится голова.
На золотую жилу я напал,
Где вспыхнули бесценные слова.
Работа и работа — лишь она
Дороже всех сокровищ на земле.
В бессмертье погоняя скакуна,
И день, и ночь качается в седле.
Теперь я понял, почему гниет
От ржавчины машина в гараже
И первым на земле стареет тот,
Кому не труд, а отдых по душе.
Но молод я и горд, как аргамак,
Почуявший вдали кинжальный звон…
А где же мой до гроба верный враг?..
Пускай теперь шушукается он.
I
Терпение покинуло мой дом…
А тот, кому я верил, как себе,
Расставив сети — скрылся за кустом,
Доверившись охотничьей судьбе.
И недруг старый вылез из норы
В неподходящем месте, как назло.
И конь мой добрый выбыл из игры
И потерял уздечку и седло.
Да и жена ввязалась в ближний бой,
Бессмысленный, как жизненный пустяк,
Где все равно победа не за мной,
Хоть атакуй, хоть выбрось белый флаг.
Тогда я хлопнуть дверью захотел,
Пальто набросить, мелочью звеня,
И убежать туда от важных дел,
Где никому нет дела до меня.
Хоть на Чукотку, хоть на Колыму…
На Крайний Север, Дальний ли Восток
Куда-нибудь, где, судя по всему,
Я так, как здесь, не буду одинок.
Но пыл погас… И уходящий день,
Увидев, что я тяжко занемог,
Мне прописал бесчувственную лень,
Как будто врач снотворный порошок.
Я долго спал…Потом глазел в окно.
Не брился и журналов не читал.
Хоть дождь, хоть снег — мне было все равно,
Что телеясновидец предсказал.
Я с влагою искристой и хмельной
Беседовал, как с другом, но она
Убила суть отравленной стрелой,
Лишив меня спасительного сна.
Казалось обо мне забыл весь свет…
Стихи, молчите! Карандаш, замри!
Хотя я жил не так уж много лет,
Но что-то надломилось изнутри.
Сковал недуг мучительный меня…
О, музыка!..
Твой звездный час истек.
И все же дай погреться у огня,
Переступая жизненный порог.
II
Но жизнь расхохоталась надо мной:
Мол, ты забыл добро в плену невзгод.
Да надо ль отправляться в мир иной,
Коль в этом мире дел невпроворот?
Встряхнись, побрейся — окна распахни!
Возьми бумагу, перья отточи…
В пыль превратятся каменные дни,
И музыка былая зазвучит.
… И пальцы снова стиснули перо,
Как злой клинок отважная рука.
На белый лист, как чернь на серебро,
Легла, быть может, лучшая строка.
От напряженья страх мой побледнел,
Как на заре ущербная луна.
И на столе осталась не удел
Бутылка чужеземного вина.
Забыл я про чукотские снега…
Да что они? Не нужен мне Мадрид!
И здесь быка схвачу я за рога,
Каким бы грозным не был он на вид.
Пусть хороши Камбоджа и Непал —
Моя не закружится голова.
На золотую жилу я напал,
Где вспыхнули бесценные слова.
Работа и работа — лишь она
Дороже всех сокровищ на земле.
В бессмертье погоняя скакуна,
И день, и ночь качается в седле.
Теперь я понял, почему гниет
От ржавчины машина в гараже
И первым на земле стареет тот,
Кому не труд, а отдых по душе.
Но молод я и горд, как аргамак,
Почуявший вдали кинжальный звон…
А где же мой до гроба верный враг?..
Пускай теперь шушукается он.
Махмуд, хоть век недолог твой...
Махмуд, хоть век недолог твой
Оплакивать его не стану,
Затем, что не было такой
Любви в аулах Дагестана.
Пусть безответной, пусть слепой…
Но позавидуешь ли зрячим,
Когда не стоит их покой
Одной слезы твоей горячей.
Что толку умереть седым?..
Уж лучше лечь и не проснуться.
И ныне именем святым
Влюбленные в горах клянутся.
Махмуд, страдание твое
Я не оплакиваю тоже —
Пусть в песню целится ружье,
Оно убить ее не сможет.
Ах, если б «Мариам», как ты,
Я написал сегодня ночью,
То завтра бы без суеты
В конце судьбы поставил точку.
Тебе отпустятся грехи,
Но на земле, а не в могиле,
Поскольку за твои стихи
Свинцовой пулей заплатили.
Махмуд, других, а не тебя
Я вслух оплакиваю даром —
Тех, что любили, не скорбя,
Но получали гонорары.
И даже нищенскую страсть
За грудою макулатуры
Скрывали, трепетно страшась
Не то жены, не то цензуры.
Бог с ними —
Пусть себе живут
Глухонемые музыканты…
Оплачем вместе мы, Махмуд,
Их конъюнктурные таланты.
Махмуд, хоть век недолог твой
Оплакивать его не стану,
Затем, что не было такой
Любви в аулах Дагестана.
Пусть безответной, пусть слепой…
Но позавидуешь ли зрячим,
Когда не стоит их покой
Одной слезы твоей горячей.
Что толку умереть седым?..
Уж лучше лечь и не проснуться.
И ныне именем святым
Влюбленные в горах клянутся.
Махмуд, страдание твое
Я не оплакиваю тоже —
Пусть в песню целится ружье,
Оно убить ее не сможет.
Ах, если б «Мариам», как ты,
Я написал сегодня ночью,
То завтра бы без суеты
В конце судьбы поставил точку.
Тебе отпустятся грехи,
Но на земле, а не в могиле,
Поскольку за твои стихи
Свинцовой пулей заплатили.
Махмуд, других, а не тебя
Я вслух оплакиваю даром —
Тех, что любили, не скорбя,
Но получали гонорары.
И даже нищенскую страсть
За грудою макулатуры
Скрывали, трепетно страшась
Не то жены, не то цензуры.
Бог с ними —
Пусть себе живут
Глухонемые музыканты…
Оплачем вместе мы, Махмуд,
Их конъюнктурные таланты.
Пора уже довольствоваться малым...
Пора уже довольствоваться малым
И близко к сердцу зло не принимать.
Есть время для стихов…
И для начала
Найдется в доме ручка и тетрадь.
А большего, пожалуй, и не надо —
Другое пусть другие совершат.
Но для таланта —
Высшая награда:
Поэзией, как воздухом дышать.
У каждого своя на свете доля.
И лишь пространство поровну дано
Одно на всех —
Как вспаханное поле,
В котором дремлет вечности зерно.
Пусть всякий делом собственным займется
Для высшей цели, а не для игры.
Пускай в Цовкра растут канатоходцы,
В Цада — певцы,
В Балхаре — гончары.
Мы не киты, что держат землю эту,
Хотя порой могущественней их…
Ах, только, жизнь,
Не заставляй поэта
Сверлить клубок из ниток шерстяных.
Пора уже довольствоваться малым
И близко к сердцу зло не принимать.
Есть время для стихов…
И для начала
Найдется в доме ручка и тетрадь.
А большего, пожалуй, и не надо —
Другое пусть другие совершат.
Но для таланта —
Высшая награда:
Поэзией, как воздухом дышать.
У каждого своя на свете доля.
И лишь пространство поровну дано
Одно на всех —
Как вспаханное поле,
В котором дремлет вечности зерно.
Пусть всякий делом собственным займется
Для высшей цели, а не для игры.
Пускай в Цовкра растут канатоходцы,
В Цада — певцы,
В Балхаре — гончары.
Мы не киты, что держат землю эту,
Хотя порой могущественней их…
Ах, только, жизнь,
Не заставляй поэта
Сверлить клубок из ниток шерстяных.
Говорят, земная жизнь подобна...
Говорят, земная жизнь подобна
Странному предмету одному —
Что сначала кажется удобным,
А потом не нужен никому.
Говорят, что бытие земное,
Как лавина снежная в горах —
Раскалится солнце золотое, —
И она растает в пух и прах.
Как вода в кувшине убывает,
Так и дни проходят чередой…
Говорят, что люди убивают
Время безнадежной суетой.
Я же не сторонник этой мысли…
Если бы и вправду было так,
На планете вместо светлой жизни
Воцарились пагуба и мрак.
Только корни жизненного древа
Никому не вырвать из земли —
В глубину таинственного чрева
Они крепко-накрепко вросли.
И пускай приблизился мой вечер,
И умолк веселый щебет птиц —
Вечна мысль и подвиг бесконечен,
И таланту тоже нет границ.
Вечен тот, кто пашет на рассвете
И в полуночь пишет дерзкий труд,
Чтобы было чем гордиться детям –
Вечен Данте, Пушкин и Махмуд.
Кто сказал, что канет все бесследно
В роковой мифической реке?..
Мы с тобой останемся легендой
На родном аварском языке.
Говорят, земная жизнь подобна
Странному предмету одному —
Что сначала кажется удобным,
А потом не нужен никому.
Говорят, что бытие земное,
Как лавина снежная в горах —
Раскалится солнце золотое, —
И она растает в пух и прах.
Как вода в кувшине убывает,
Так и дни проходят чередой…
Говорят, что люди убивают
Время безнадежной суетой.
Я же не сторонник этой мысли…
Если бы и вправду было так,
На планете вместо светлой жизни
Воцарились пагуба и мрак.
Только корни жизненного древа
Никому не вырвать из земли —
В глубину таинственного чрева
Они крепко-накрепко вросли.
И пускай приблизился мой вечер,
И умолк веселый щебет птиц —
Вечна мысль и подвиг бесконечен,
И таланту тоже нет границ.
Вечен тот, кто пашет на рассвете
И в полуночь пишет дерзкий труд,
Чтобы было чем гордиться детям –
Вечен Данте, Пушкин и Махмуд.
Кто сказал, что канет все бесследно
В роковой мифической реке?..
Мы с тобой останемся легендой
На родном аварском языке.
Чунгур Сулеймана
I
В тот черный год, когда цвела несмело
Увы, его последняя весна,
Душа веселых песен петь не смела,
Неведомой тоской удручена.
В тот роковой
Тридцать седьмой, далекий
Его чунгур пылился на стене…
Когда-то он, как перышко, был легким.
А нынче стал, как ноша на спине.
Молчали струны, затаив обиду
На мрачного хозяина, а тот
Внезапно протянул чунгур Хабибу1:
— В твоих руках он снова оживет.
Мое наследство, как поэт поэту,
Тебе я завещаю одному.
Пусть сыновья простят меня за это,
Когда порыв мой искренний поймут.
… И вскоре на каспийском побережье
Был погребен прославленный ашуг.
Но тот, кого он звал своей надеждой,
Его чунгур не выронил из рук.
И, продолжая, дело Сулеймана,
Без устали трудился Эффенди,
Так, словно он предчувствовал, как мало
Ему на свете выпадет пути.
А перед ним, как талисман заветный,
Висел чунгур старинный на стене,
И главы знаменитого «Поэта»
Уже были написаны вчерне.
Но вдруг война…
Как тяжкая работа —
Поездки репортерские на фронт.
Последняя страничка из блокнота,
Как будто заключительный аккорд.
Молчи чунгур…
Тебя, оберегая,
Не выпустят из отчего гнезда.
А тот, кто вечно на переднем крае,
Домой не возвратится никогда.
Вдова по мужу черный траур сносит,
Касаясь скорбно лопнувшей струны.
И в волосах ее густая проседь
Останется, как метка, той войны.
II
Минули годы…
Стал и я поэтом.
И как-то раз осеннею порой
В день именин друзья мои с букетом
Ворвались в дом компанией хмельной.
И среди них Капиева Наталья
Одна лишь оставалась в стороне,
Застенчиво вздыхая, словно тайну
Какую-то пришла доверить мне.
Она была оратором неважным,
Но в этот миг, румяна и смела,
Срывающимся голосом отважно
Торжественную речь произнесла:
— Расул!..
Подарок славного ашуга
Достался мне от мужа моего.
И вместо поздравления прошу я
Прими, как завещание, его.
Я взял чунгур дрожащими руками,
Предательскую проглотив слезу.
И бережно, как драгоценный камень,
Держал перед собою на весу.
С тех пор в моей кунацкой над диваном
С отцовскими вещами на стене
Висит чунгур ашуга Сулеймана
С пандуром и кинжалом наравне.
Когда я песню новую слагаю,
Гляжу на них, не отрывая глаз,
И чувствую, как музыка живая
Незримой нитью связывает нас.
А если я внезапно петь устану,
Пусть кто-нибудь подхватит мой мотив
О безднах и вершинах Дагестана —
Ориентирах нашего пути.
Пусть молодость заносчивая злее
И саклю распродать спешит на слом,
Забыв о том — что чем дрова древнее,
Тем дольше в очаге хранят тепло.
I
В тот черный год, когда цвела несмело
Увы, его последняя весна,
Душа веселых песен петь не смела,
Неведомой тоской удручена.
В тот роковой
Тридцать седьмой, далекий
Его чунгур пылился на стене…
Когда-то он, как перышко, был легким.
А нынче стал, как ноша на спине.
Молчали струны, затаив обиду
На мрачного хозяина, а тот
Внезапно протянул чунгур Хабибу1:
— В твоих руках он снова оживет.
Мое наследство, как поэт поэту,
Тебе я завещаю одному.
Пусть сыновья простят меня за это,
Когда порыв мой искренний поймут.
… И вскоре на каспийском побережье
Был погребен прославленный ашуг.
Но тот, кого он звал своей надеждой,
Его чунгур не выронил из рук.
И, продолжая, дело Сулеймана,
Без устали трудился Эффенди,
Так, словно он предчувствовал, как мало
Ему на свете выпадет пути.
А перед ним, как талисман заветный,
Висел чунгур старинный на стене,
И главы знаменитого «Поэта»
Уже были написаны вчерне.
Но вдруг война…
Как тяжкая работа —
Поездки репортерские на фронт.
Последняя страничка из блокнота,
Как будто заключительный аккорд.
Молчи чунгур…
Тебя, оберегая,
Не выпустят из отчего гнезда.
А тот, кто вечно на переднем крае,
Домой не возвратится никогда.
Вдова по мужу черный траур сносит,
Касаясь скорбно лопнувшей струны.
И в волосах ее густая проседь
Останется, как метка, той войны.
II
Минули годы…
Стал и я поэтом.
И как-то раз осеннею порой
В день именин друзья мои с букетом
Ворвались в дом компанией хмельной.
И среди них Капиева Наталья
Одна лишь оставалась в стороне,
Застенчиво вздыхая, словно тайну
Какую-то пришла доверить мне.
Она была оратором неважным,
Но в этот миг, румяна и смела,
Срывающимся голосом отважно
Торжественную речь произнесла:
— Расул!..
Подарок славного ашуга
Достался мне от мужа моего.
И вместо поздравления прошу я
Прими, как завещание, его.
Я взял чунгур дрожащими руками,
Предательскую проглотив слезу.
И бережно, как драгоценный камень,
Держал перед собою на весу.
С тех пор в моей кунацкой над диваном
С отцовскими вещами на стене
Висит чунгур ашуга Сулеймана
С пандуром и кинжалом наравне.
Когда я песню новую слагаю,
Гляжу на них, не отрывая глаз,
И чувствую, как музыка живая
Незримой нитью связывает нас.
А если я внезапно петь устану,
Пусть кто-нибудь подхватит мой мотив
О безднах и вершинах Дагестана —
Ориентирах нашего пути.
Пусть молодость заносчивая злее
И саклю распродать спешит на слом,
Забыв о том — что чем дрова древнее,
Тем дольше в очаге хранят тепло.
Надпись на книге, подаренной Магомеду Омарову
Возьми-ка гитару, Омаров,
Настрой-ка ее, Магомед.
Ведь с ней, звонкострунной, недаром
Ты дружен уже столько лет.
Пусть голос твой льется свободно
В согласии с сердцем твоим,
Могу его сколько угодно
Я слушать – он всеми любим.
Пусть песня летит прямо в душу
О страсти горячей в груди…
Ее невозможно не слушать –
Она, словно посох в пути.
Пусть песня твоя огневая
Не даст сдаться в плен Шамилю,
Пускай от тоски погибая,
Как женщина шепчет: "люблю"…
И храброму Хаджи-Мурату
Пускай оступиться не даст,
Пусть мощным летит камнепадом
Твой неподражаемый бас.
Пусть каменной станет стеною
И пуле той путь преградит,
Что пущена подлой рукою
И в спину Махмуда летит.
Пускай он из Бетля Лауру,
Прекрасную нашу Муи,
Разбудит, как звуки пандура,
Как в майском саду соловьи.
Омаров, возьми-ка гитару,
Настрой-ка ее, Магомед.
Ведь с ней, сладкозвучной, недаром
Ты дружен уже столько лет.
Она и с землею, и с небом
Язык может общий найти.
Стать ветром, посыпаться снегом
И горной айвой зацвести.
Свободно пусть музыка льется
В согласии с голосом вновь.
Так пой же, пока нам поется
Про нашу земную любовь!
И чашу вином наполняя,
Ее осуши ты до дна,
Чтоб песня твоя огневая
Хмелела с тобой от вина.
Аллахом простится, быть может,
Тебе эта тайная страсть.
Но петь без нее невозможно
Так искренно, трепетно, всласть.
Пускай все на свете кинжалы
Твой голос сейчас примирит.
Пусть щедрыми сделает жадных
Игры зажигательный ритм.
Как будто бескрылая птица,
Душа без мелодии, друг.
Не дай ты ей остановиться,
Продолжи скорее игру.
Ведь край наш для радостных песен
Когда-то был создан Творцом,
Без них он невзрачен и пресен,
Как будто без соли яйцо.
Как будто гора, без вершины,
Как будто очаг без огня…
Как будто семья без мужчины,
Как будто джигит без коня.
Играй, Магомед, до упаду
И пой, чтоб под песню твою
Все мертвые встали из ада
И ангелы пели в раю.
Возьми-ка гитару, Омаров,
Настрой-ка ее, Магомед.
Ведь с ней, звонкострунной, недаром
Ты дружен уже столько лет.
Пусть голос твой льется свободно
В согласии с сердцем твоим,
Могу его сколько угодно
Я слушать – он всеми любим.
Пусть песня летит прямо в душу
О страсти горячей в груди…
Ее невозможно не слушать –
Она, словно посох в пути.
Пусть песня твоя огневая
Не даст сдаться в плен Шамилю,
Пускай от тоски погибая,
Как женщина шепчет: "люблю"…
И храброму Хаджи-Мурату
Пускай оступиться не даст,
Пусть мощным летит камнепадом
Твой неподражаемый бас.
Пусть каменной станет стеною
И пуле той путь преградит,
Что пущена подлой рукою
И в спину Махмуда летит.
Пускай он из Бетля Лауру,
Прекрасную нашу Муи,
Разбудит, как звуки пандура,
Как в майском саду соловьи.
Омаров, возьми-ка гитару,
Настрой-ка ее, Магомед.
Ведь с ней, сладкозвучной, недаром
Ты дружен уже столько лет.
Она и с землею, и с небом
Язык может общий найти.
Стать ветром, посыпаться снегом
И горной айвой зацвести.
Свободно пусть музыка льется
В согласии с голосом вновь.
Так пой же, пока нам поется
Про нашу земную любовь!
И чашу вином наполняя,
Ее осуши ты до дна,
Чтоб песня твоя огневая
Хмелела с тобой от вина.
Аллахом простится, быть может,
Тебе эта тайная страсть.
Но петь без нее невозможно
Так искренно, трепетно, всласть.
Пускай все на свете кинжалы
Твой голос сейчас примирит.
Пусть щедрыми сделает жадных
Игры зажигательный ритм.
Как будто бескрылая птица,
Душа без мелодии, друг.
Не дай ты ей остановиться,
Продолжи скорее игру.
Ведь край наш для радостных песен
Когда-то был создан Творцом,
Без них он невзрачен и пресен,
Как будто без соли яйцо.
Как будто гора, без вершины,
Как будто очаг без огня…
Как будто семья без мужчины,
Как будто джигит без коня.
Играй, Магомед, до упаду
И пой, чтоб под песню твою
Все мертвые встали из ада
И ангелы пели в раю.
Надпись на книге, подаренной Хизгилу Авшалумову
– Хизгил, поедем в Персию, мой друг,
Ведь там поймут тебя без перевода.
– Где я родился, там я и умру, –
Ответил мне на это друг мой гордо.
Потом добавил, что милей всех стран,
Которые на свете существуют
Ему его родимый Дагестан,
Что он не примет родину другую.
Из этих мест пошел он на войну,
Сюда вернулся он после Победы.
Он воевал отважно за страну
И разделил с ней радости и беды.
– Хизгил, в Израиль, поезжай со мной,
Ведь там понятны всем твои молитвы.
– Обетованною моей землей
Стал Дагестан – очаг мой и обитель.
Потом добавил, что судьба его
С родной навеки связана землею
И в жизни нет дороже ничего,
Чем эти горы, полные покоя.
– Хизгил, дай руку мне, товарищ мой,
Дербент – нам Рим, Гуниб для нас – Монако.
Нарынкала – Акрополь золотой,
Где светит нам история из мрака.
Таких преданий нет в краях чужих,
А если есть, то мне не тронут душу
Они, Хизгил, сильнее слов твоих,
Которые готов я вечно слушать.
– Хизгил, поедем в Персию, мой друг,
Ведь там поймут тебя без перевода.
– Где я родился, там я и умру, –
Ответил мне на это друг мой гордо.
Потом добавил, что милей всех стран,
Которые на свете существуют
Ему его родимый Дагестан,
Что он не примет родину другую.
Из этих мест пошел он на войну,
Сюда вернулся он после Победы.
Он воевал отважно за страну
И разделил с ней радости и беды.
– Хизгил, в Израиль, поезжай со мной,
Ведь там понятны всем твои молитвы.
– Обетованною моей землей
Стал Дагестан – очаг мой и обитель.
Потом добавил, что судьба его
С родной навеки связана землею
И в жизни нет дороже ничего,
Чем эти горы, полные покоя.
– Хизгил, дай руку мне, товарищ мой,
Дербент – нам Рим, Гуниб для нас – Монако.
Нарынкала – Акрополь золотой,
Где светит нам история из мрака.
Таких преданий нет в краях чужих,
А если есть, то мне не тронут душу
Они, Хизгил, сильнее слов твоих,
Которые готов я вечно слушать.
Лев, лежа в логове, дичь не убьет...
Лев, лежа в логове, дичь не убьет.
Трусу булатная сталь не нужна.
Ряской зловонной вода зарастет,
Если стоит без движенья она.
Лев, лежа в логове, дичь не убьет.
Трусу булатная сталь не нужна.
Ряской зловонной вода зарастет,
Если стоит без движенья она.
Я не старик еще, но все же...
Я не старик еще, но все же
Болезни мучают порой…
Когда звонок звенит в прихожей,
Мне кажется —
Пришли за мной.
Все реже любит оставаться
Наедине со мною век.
Все резче дальний гул оваций
Летит на голову, как снег.
Но на земле ничто не вечно —
Всего мгновение одно
Играет музыка беспечно
И смотрит женщина в окно.
Не променяю на бессмертье
Прощальный взмах ее руки…
Еще любовь моя безмерна
И мускулы, как сталь, крепки.
Пускай зовет остепениться
Меня седая голова,
Вино по-прежнему искрится,
Рождая светлые слова.
Мои шаги все тяжелее,
И все короче долгий путь…
Но все равно ты не сумеешь,
Двадцатый век, меня согнуть.
Я не старик еще, но все же
Болезни мучают порой…
Когда звонок звенит в прихожей,
Мне кажется —
Пришли за мной.
Все реже любит оставаться
Наедине со мною век.
Все резче дальний гул оваций
Летит на голову, как снег.
Но на земле ничто не вечно —
Всего мгновение одно
Играет музыка беспечно
И смотрит женщина в окно.
Не променяю на бессмертье
Прощальный взмах ее руки…
Еще любовь моя безмерна
И мускулы, как сталь, крепки.
Пускай зовет остепениться
Меня седая голова,
Вино по-прежнему искрится,
Рождая светлые слова.
Мои шаги все тяжелее,
И все короче долгий путь…
Но все равно ты не сумеешь,
Двадцатый век, меня согнуть.