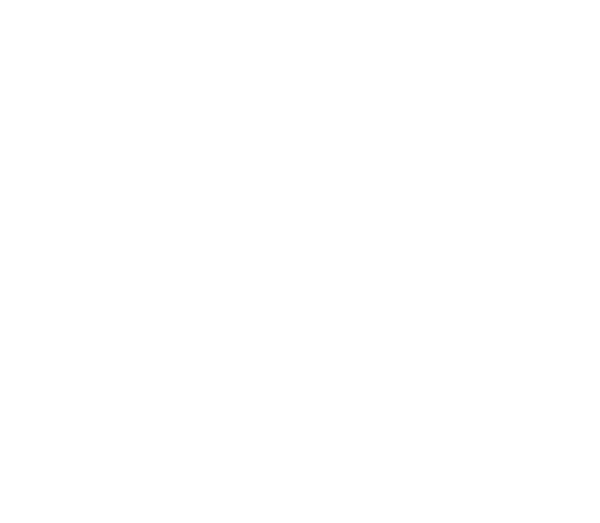1964
Из книги
"И звезда с звездою говорит"
"И звезда с звездою говорит"
Расул Гамзатов
Ловчий голову клонит понуро...
Ловчий голову клонит понуро,
Грусть охотничью как не понять,
Если сам златорогого тура
До сих пор не сумел я поймать.
Человеческих чувств не сокроешь,
И себя все надеждою льщу,
Что однажды заветных сокровищ
Я волшебный сундук отыщу.
Там, где тропы кружить не устали,
Все пытаюсь найти я родник,
Чтобы сердцем к нему, как устами,
Вы припали хотя бы на миг.
И ложатся слова на бумагу,
Я над ней, как над люлькой, дышу.
Сладкой каторге давший присягу,
Снова мучаюсь, снова пишу.
Ловчий голову клонит понуро,
Грусть охотничью как не понять,
Если сам златорогого тура
До сих пор не сумел я поймать.
Человеческих чувств не сокроешь,
И себя все надеждою льщу,
Что однажды заветных сокровищ
Я волшебный сундук отыщу.
Там, где тропы кружить не устали,
Все пытаюсь найти я родник,
Чтобы сердцем к нему, как устами,
Вы припали хотя бы на миг.
И ложатся слова на бумагу,
Я над ней, как над люлькой, дышу.
Сладкой каторге давший присягу,
Снова мучаюсь, снова пишу.
Горцам, переселяющимся с гор
Горцы, вы с новой свыкаясь судьбою,
Переходя на равнинный простор,
Горство свое захватите с собою,
Мужество, дружество, запахи гор.
Перед дорогою, на перепутье,
Перебирая нехитрый свой груз,
Говор ущелий в горах не забудьте,
Горскую песню, двухструнный кумуз!
Не оставляйте своих колыбелей,
Старых, в которых баюкали вас,
Седел тугих, на которых сидели
Ваши отцы, объезжая Кавказ.
Земли щедрее на низменном месте,
Больше там света, тепла и красот...
Чистой вершины отваги и чести
Не покидайте, спускаясь с высот.
Вы, уходящие в край, напоенный
Солнечным светом, водой голубой,
Бедность забудьте на каменных склонах.
Честность ее заберите с собой!
Вы, оставляя родные нагорья,
Не переймите изменчивость рек.
Реки бегут и теряются в море, –
Сущность свою сохраните навек!
Горцы, покинув родные жилища,
Горскую честь захватите с собой –
Или навечно останетесь нищи,
Даже одаренные судьбой.
Горцы, в каких бы лучах вы ни грелись,
Горскую стать сохранить вы должны,
Как сохраняют особую прелесть
Лани, что в горном краю рождены.
Горцы, кувшины возьмите с собою –
Вы издалека в них воду несли,
С отчих могил захватите с собою
Камня осколок, щепотку земли!
Горцы, внизу вам судьба улыбнется.
Встретит вас слава на новом пути.
Горцы, храните достоинство горцев,
Чтобы и славу достойно нести!
Горцы, вы с новой свыкаясь судьбою,
Переходя на равнинный простор,
Горство свое захватите с собою,
Мужество, дружество, запахи гор.
Перед дорогою, на перепутье,
Перебирая нехитрый свой груз,
Говор ущелий в горах не забудьте,
Горскую песню, двухструнный кумуз!
Не оставляйте своих колыбелей,
Старых, в которых баюкали вас,
Седел тугих, на которых сидели
Ваши отцы, объезжая Кавказ.
Земли щедрее на низменном месте,
Больше там света, тепла и красот...
Чистой вершины отваги и чести
Не покидайте, спускаясь с высот.
Вы, уходящие в край, напоенный
Солнечным светом, водой голубой,
Бедность забудьте на каменных склонах.
Честность ее заберите с собой!
Вы, оставляя родные нагорья,
Не переймите изменчивость рек.
Реки бегут и теряются в море, –
Сущность свою сохраните навек!
Горцы, покинув родные жилища,
Горскую честь захватите с собой –
Или навечно останетесь нищи,
Даже одаренные судьбой.
Горцы, в каких бы лучах вы ни грелись,
Горскую стать сохранить вы должны,
Как сохраняют особую прелесть
Лани, что в горном краю рождены.
Горцы, кувшины возьмите с собою –
Вы издалека в них воду несли,
С отчих могил захватите с собою
Камня осколок, щепотку земли!
Горцы, внизу вам судьба улыбнется.
Встретит вас слава на новом пути.
Горцы, храните достоинство горцев,
Чтобы и славу достойно нести!
Горцы, покинув родные жилища,
Горскую честь захватите с собой –
Или навечно останетесь нищи,
Даже одаренные судьбой.
Горскую честь захватите с собой –
Или навечно останетесь нищи,
Даже одаренные судьбой.
Проклятие
Проклятье бурдюку дырявому,
В котором не хранят вино,
Проклятие кинжалу ржавому
И ржавым ножнам заодно.
Проклятие стиху холодному,
Негреющему башлыку,
Проклятье вертелу свободному,
Нежарящемуся шашлыку!
Проклятье тем, кто и понятия
Иметь о чести не привык,
Проклятие, мое проклятие
Унизившим родной язык.
Тому проклятье, в ком прозрения
Не знала совесть на веку.
Пусть примет тот мое презрение,
Кто дверь не отпер кунаку.
Будь проклято в любом обличии
Мне ненавистное вранье.
Забывшим горские обычаи
Презренье горское мое!
Будь проклят, кто на древе замысла
Боится света, как сова,
И тот, кто клятвенные запросто
Бросает на ветер слова.
В кавказца, как бы он ни каялся,
Проклятьем выстрелю в упор,
Когда бы он начальству кланялся,
А не вершинам отчих гор.
Будь проклят, кто забыл о матери
Иль в дом отца принес позор.
Будь проклят тот, кто невнимателен
К печали собственных сестер.
Проклятье лбу, тупому, медному,
И тем, кто лести варит мед,
Проклятие юнцу надменному,
Что перед старцем не встает.
Проклятье трусу в дни обычные,
Проклятье дважды – на войне.
Вам, алчные, вам, безразличные,
Проклятье с трусом наравне.
Мне все народы очень нравятся.
И трижды будет проклят тот,
Кто вздумает,
кто попытается
Чернить какой-нибудь народ.
Да будет проклят друг,
которого
Не дозовешься в час беды!
И проклят голос петь готового
В любом кругу на все лады!
Проклятье бурдюку дырявому,
В котором не хранят вино,
Проклятие кинжалу ржавому
И ржавым ножнам заодно.
Проклятие стиху холодному,
Негреющему башлыку,
Проклятье вертелу свободному,
Нежарящемуся шашлыку!
Проклятье тем, кто и понятия
Иметь о чести не привык,
Проклятие, мое проклятие
Унизившим родной язык.
Тому проклятье, в ком прозрения
Не знала совесть на веку.
Пусть примет тот мое презрение,
Кто дверь не отпер кунаку.
Будь проклято в любом обличии
Мне ненавистное вранье.
Забывшим горские обычаи
Презренье горское мое!
Будь проклят, кто на древе замысла
Боится света, как сова,
И тот, кто клятвенные запросто
Бросает на ветер слова.
В кавказца, как бы он ни каялся,
Проклятьем выстрелю в упор,
Когда бы он начальству кланялся,
А не вершинам отчих гор.
Будь проклят, кто забыл о матери
Иль в дом отца принес позор.
Будь проклят тот, кто невнимателен
К печали собственных сестер.
Проклятье лбу, тупому, медному,
И тем, кто лести варит мед,
Проклятие юнцу надменному,
Что перед старцем не встает.
Проклятье трусу в дни обычные,
Проклятье дважды – на войне.
Вам, алчные, вам, безразличные,
Проклятье с трусом наравне.
Мне все народы очень нравятся.
И трижды будет проклят тот,
Кто вздумает,
кто попытается
Чернить какой-нибудь народ.
Да будет проклят друг,
которого
Не дозовешься в час беды!
И проклят голос петь готового
В любом кругу на все лады!
Не прибегая к притчам...
Не прибегая к притчам,
В горы пришла весна,
Соломинку в клюве птичьем,
Ликуя, несет она.
Играет потоком грозным,
Расплавившая снега.
И бык, раздувая ноздри,
В землю вонзил рога.
Глаза заливает охра,
Но голову к облакам
Вновь поднял он,
и присохла
Парная земля к рогам.
И внучкою, может статься,
Со старцем сидит весна,
И гладит бороду старца
Теплой рукой она.
Веснушчатая, полощет
Белье в голубом ручье
И льет серебро полночи
У дерева на плече.
Сделалась первой свахой,
И нежно звучат слова,
И кружится под папахой
Влюбленного голова.
Весна, поклоняясь грозам,
Над лермонтовскою тропой
Подкрасила губы козам
Молоденькою травой.
Пахотой увлеченная,
Полем идет, вольна,
И справа ложится черная,
Лоснящаяся волна.
И радуюсь не во сне я,
И, солнце прижав к груди,
В горах говорю весне я:
«Надежда моя, входи!
Входи ко мне в трелях птичьих,
В мокрой траве лугов,
Входи на кончиках бычьих,
Черненных землей, рогов».
Не прибегая к притчам,
В горы пришла весна,
Соломинку в клюве птичьем,
Ликуя, несет она.
Играет потоком грозным,
Расплавившая снега.
И бык, раздувая ноздри,
В землю вонзил рога.
Глаза заливает охра,
Но голову к облакам
Вновь поднял он,
и присохла
Парная земля к рогам.
И внучкою, может статься,
Со старцем сидит весна,
И гладит бороду старца
Теплой рукой она.
Веснушчатая, полощет
Белье в голубом ручье
И льет серебро полночи
У дерева на плече.
Сделалась первой свахой,
И нежно звучат слова,
И кружится под папахой
Влюбленного голова.
Весна, поклоняясь грозам,
Над лермонтовскою тропой
Подкрасила губы козам
Молоденькою травой.
Пахотой увлеченная,
Полем идет, вольна,
И справа ложится черная,
Лоснящаяся волна.
И радуюсь не во сне я,
И, солнце прижав к груди,
В горах говорю весне я:
«Надежда моя, входи!
Входи ко мне в трелях птичьих,
В мокрой траве лугов,
Входи на кончиках бычьих,
Черненных землей, рогов».
Зеленеют поля и полянки...
Зеленеют поля и полянки,
Блещут зеленью долы и луг,
Словно их постирали горянки,
А потом расстелили вокруг.
Зеленеют поля и полянки,
Ну а мы все седеем, мой друг.
Заалела заря, заалела,
Стало облако розовым вдруг.
И на головы бычьи умело
Брошен пурпур из огненных рук.
Заалела заря, заалела,
Ну а мы все седеем, мой друг.
Голубеют сквозные просторы,
Синей бездны заоблачный круг,
Синий сумрак, окутавший горы,
Колокольчика синего звук.
Голубеют сквозные просторы,
Ну а мы все седеем, мой друг.
Молодеют поля и долины...
Не лукавь, ну какой в этом прок,
И не лги, будто пух тополиный,
А не снег на виски наши лег.
Мы с тобой не поля, а вершины,
Что белы даже в летний денек.
Зеленеют поля и полянки,
Блещут зеленью долы и луг,
Словно их постирали горянки,
А потом расстелили вокруг.
Зеленеют поля и полянки,
Ну а мы все седеем, мой друг.
Заалела заря, заалела,
Стало облако розовым вдруг.
И на головы бычьи умело
Брошен пурпур из огненных рук.
Заалела заря, заалела,
Ну а мы все седеем, мой друг.
Голубеют сквозные просторы,
Синей бездны заоблачный круг,
Синий сумрак, окутавший горы,
Колокольчика синего звук.
Голубеют сквозные просторы,
Ну а мы все седеем, мой друг.
Молодеют поля и долины...
Не лукавь, ну какой в этом прок,
И не лги, будто пух тополиный,
А не снег на виски наши лег.
Мы с тобой не поля, а вершины,
Что белы даже в летний денек.
Время
Время скалы покрыло морщинами,
Ранит горы, летя как поток,
Расправляется даже с мужчинами,
Их сгибая в положенный срок.
Это время – травою зеленою
Опушило заоблачный луг.
Это время – слезинкой соленою
По щеке проползло моей вдруг.
На цовкринца смотрю:
не сорвется ли?
По канату идти тяжело.
Мне с цовкринскими канатоходцами
Время сходство давно придало.
Это время – хвостами не лисьими
Заметает следы наших ног,
Но опять над опавшими листьями
Лес весеннее пламя зажег.
Бьют часы на стене и за стенкою.
Радость,
к сердцу людскому причаль
И дружи с часовою ты стрелкою,
Пусть с секундною дружит печаль.
Время скалы покрыло морщинами,
Ранит горы, летя как поток,
Расправляется даже с мужчинами,
Их сгибая в положенный срок.
Это время – травою зеленою
Опушило заоблачный луг.
Это время – слезинкой соленою
По щеке проползло моей вдруг.
На цовкринца смотрю:
не сорвется ли?
По канату идти тяжело.
Мне с цовкринскими канатоходцами
Время сходство давно придало.
Это время – хвостами не лисьими
Заметает следы наших ног,
Но опять над опавшими листьями
Лес весеннее пламя зажег.
Бьют часы на стене и за стенкою.
Радость,
к сердцу людскому причаль
И дружи с часовою ты стрелкою,
Пусть с секундною дружит печаль.
И трижды будет проклят тот,
Кто вздумает,
кто попытается
Чернить какой-нибудь народ.
Кто вздумает,
кто попытается
Чернить какой-нибудь народ.
А. Райкину
...И на дыбы скакун не поднимался,
Не грыз от нетерпения удил,
Он только белозубо улыбался
И голову тяжелую клонил.
Почти земли его касалась грива,
Гнедая,
походила на огонь.
Вначале мне подумалось:
вот диво,
Как человек, смеется этот конь.
Подобное кого не озадачит.
Решил взглянуть поближе на коня.
И вижу:
не смеется конь, а плачет,
По-человечьи голову клоня.
Глаза продолговаты, словно листья,
И две слезы туманятся внутри...
Когда смеюсь,
ты, милый мой, приблизься
И повнимательнее посмотри.
...И на дыбы скакун не поднимался,
Не грыз от нетерпения удил,
Он только белозубо улыбался
И голову тяжелую клонил.
Почти земли его касалась грива,
Гнедая,
походила на огонь.
Вначале мне подумалось:
вот диво,
Как человек, смеется этот конь.
Подобное кого не озадачит.
Решил взглянуть поближе на коня.
И вижу:
не смеется конь, а плачет,
По-человечьи голову клоня.
Глаза продолговаты, словно листья,
И две слезы туманятся внутри...
Когда смеюсь,
ты, милый мой, приблизься
И повнимательнее посмотри.
Мой возраст
Как в детстве я завидовал джигитам!
Они скакали, к седлам прикипев,
А ночью пели у окон закрытых,
Лишая сна аульских королев.
Казались мне важнее всех событий
Их скачки, походившие на бой.
Мальчишка, умолял я: «Погодите!»
Кричал: «Возьмите и меня с собой!»
Клубилась пыль лихим парням вдогонку,
Беспомощный, в своей большой беде
Казался я обиженным орленком,
До вечера оставленным в гнезде.
Как часто, глядя вдаль из-под ладони,
Джигитов ждал я до заката дня.
Мелькали месяцы, скакали кони,
Пыль сединой ложилась на меня.
Коней седлают новые джигиты;
А я, отяжелевший и седой,
Опять кричу вдогонку: «Погодите!»
Прошу: «Возьмите и меня с собой!»
Не ждут они и, дернув повод крепко,
Вдаль улетают, не простясь со мной,
И остаюсь я на песке, как щепка,
Покинутая легкою волной.
Мне говорят: «Тебе ль скакать по склонам,
Тебе ль ходить нехоженой тропой?
Почтенный, сединою убеленный,
Грей кости у огня и песни пой!»
О молодость, ужель была ты гостьей,
И я, чудак, твой проворонил час?
У очага пора ли греть мне кости,
Ужели мой огонь уже погас?
Нет, я не стал бесчувственным и черствым,
Пусть мне рукою не согнуть подков,
Я запою, и королевам горским
Не дам уснуть до третьих петухов.
Не все из смертных старятся, поверьте.
Коль человек поэт, то у него
Меж датами рождения и смерти
Нет, кроме молодости, ничего.
Всем сущим поколениям ровесник,
Поняв давно, что годы – не беда,
Я буду юн, пока слагаю песни,
Забыв про возраст раз и навсегда.
Как в детстве я завидовал джигитам!
Они скакали, к седлам прикипев,
А ночью пели у окон закрытых,
Лишая сна аульских королев.
Казались мне важнее всех событий
Их скачки, походившие на бой.
Мальчишка, умолял я: «Погодите!»
Кричал: «Возьмите и меня с собой!»
Клубилась пыль лихим парням вдогонку,
Беспомощный, в своей большой беде
Казался я обиженным орленком,
До вечера оставленным в гнезде.
Как часто, глядя вдаль из-под ладони,
Джигитов ждал я до заката дня.
Мелькали месяцы, скакали кони,
Пыль сединой ложилась на меня.
Коней седлают новые джигиты;
А я, отяжелевший и седой,
Опять кричу вдогонку: «Погодите!»
Прошу: «Возьмите и меня с собой!»
Не ждут они и, дернув повод крепко,
Вдаль улетают, не простясь со мной,
И остаюсь я на песке, как щепка,
Покинутая легкою волной.
Мне говорят: «Тебе ль скакать по склонам,
Тебе ль ходить нехоженой тропой?
Почтенный, сединою убеленный,
Грей кости у огня и песни пой!»
О молодость, ужель была ты гостьей,
И я, чудак, твой проворонил час?
У очага пора ли греть мне кости,
Ужели мой огонь уже погас?
Нет, я не стал бесчувственным и черствым,
Пусть мне рукою не согнуть подков,
Я запою, и королевам горским
Не дам уснуть до третьих петухов.
Не все из смертных старятся, поверьте.
Коль человек поэт, то у него
Меж датами рождения и смерти
Нет, кроме молодости, ничего.
Всем сущим поколениям ровесник,
Поняв давно, что годы – не беда,
Я буду юн, пока слагаю песни,
Забыв про возраст раз и навсегда.
Мне ль тебе, Дагестан мой былинный...
Мне ль тебе, Дагестан мой былинный,
Не молиться,
Тебя ль не любить,
Мне ль в станице твоей журавлиной
Отколовшейся птицею быть?
Дагестан, все, что люди мне дали,
Я по чести с тобой разделю,
Я свои ордена и медали
На вершины твои приколю.
Посвящу тебе звонкие гимны
И слова, превращенные в стих,
Только бурку лесов подари мне
И папаху вершин снеговых!
Мне ль тебе, Дагестан мой былинный,
Не молиться,
Тебя ль не любить,
Мне ль в станице твоей журавлиной
Отколовшейся птицею быть?
Дагестан, все, что люди мне дали,
Я по чести с тобой разделю,
Я свои ордена и медали
На вершины твои приколю.
Посвящу тебе звонкие гимны
И слова, превращенные в стих,
Только бурку лесов подари мне
И папаху вершин снеговых!
Собрания
Собрания! Их гул и тишина,
Слова, слова, известные заранее.
Мне кажется порой, что вся страна
Расходится на разные собрания.
Взлетает самолет, пыхтит состав,
Служилый люд спешит на заседания,
А там в речах каких не косят трав,
Какие только не возводят здания!
Сидит хирург неделю напролет,
А где-то пусты операционные,
Неделю носом каменщик клюет,
А где-то стены недовозведенные.
Неделю заседают пастухи,
Оставив скот волкам на растерзание.
В газетах не печатают стихи:
Печатают отчеты о собраниях.
Стряслась беда, в селенье дом горит,
Клубами дым восходит в высь небесную,
А брандмайор в дыму собранья бдит,
Бьет в грудь себя и воду льет словесную.
В конторе важной чуть ли не с утра
Сидят пред кабинетами просители,
Но заняты весь день директора,
Доклады им готовят заместители.
Езжай домой, колхозник, мой земляк,
Ты не дождешься проявленья чуткости,
Не могут здесь тебя принять никак –
Готовят выступления о чуткости!
Собранья! О, натруженные рты,
О, словеса ораторов напористых,
Чья речь не стоит в поле борозды,
Не стоит и мозоли рук мозолистых.
Пошлите в бой – я голову сложу,
Пойду валить стволы деревьев кряжистых,
Велите песни петь, и я скажу
То, что с трибуны никогда не скажется.
Хочу работать, жить, хочу писать,
Служить вам до последнего дыхания...
Но не окончил я стихов опять:
Пришли ко мне – позвали на собрание!
Собрания! Их гул и тишина,
Слова, слова, известные заранее.
Мне кажется порой, что вся страна
Расходится на разные собрания.
Взлетает самолет, пыхтит состав,
Служилый люд спешит на заседания,
А там в речах каких не косят трав,
Какие только не возводят здания!
Сидит хирург неделю напролет,
А где-то пусты операционные,
Неделю носом каменщик клюет,
А где-то стены недовозведенные.
Неделю заседают пастухи,
Оставив скот волкам на растерзание.
В газетах не печатают стихи:
Печатают отчеты о собраниях.
Стряслась беда, в селенье дом горит,
Клубами дым восходит в высь небесную,
А брандмайор в дыму собранья бдит,
Бьет в грудь себя и воду льет словесную.
В конторе важной чуть ли не с утра
Сидят пред кабинетами просители,
Но заняты весь день директора,
Доклады им готовят заместители.
Езжай домой, колхозник, мой земляк,
Ты не дождешься проявленья чуткости,
Не могут здесь тебя принять никак –
Готовят выступления о чуткости!
Собранья! О, натруженные рты,
О, словеса ораторов напористых,
Чья речь не стоит в поле борозды,
Не стоит и мозоли рук мозолистых.
Пошлите в бой – я голову сложу,
Пойду валить стволы деревьев кряжистых,
Велите песни петь, и я скажу
То, что с трибуны никогда не скажется.
Хочу работать, жить, хочу писать,
Служить вам до последнего дыхания...
Но не окончил я стихов опять:
Пришли ко мне – позвали на собрание!
Собрания! Их гул и тишина,
Слова, слова, известные заранее.
Мне кажется порой, что вся страна
Расходится на разные собрания.
Слова, слова, известные заранее.
Мне кажется порой, что вся страна
Расходится на разные собрания.
Детство
Детство мое, ты в горах начиналось,
Но я простился с землею родной,
И показалось мне: детство осталось
В крае отцовском, покинутом мной.
Мне показалось, что, умный и взрослый,
Глупое детство оставил,
а сам
Туфли надел я, чарыки я сбросил
И зашагал по чужим городам.
Думал я: зрелостью детство сменилось.
Слышалось мне: грохоча на ходу,
С громом арба по дороге катилась,
Лента мелькала, и время кружилось,
Словно волчок на расчищенном льду.
Но, завершая четвертый десяток,
Взрослым не стал я, хоть стал я седым.
Я, как мальчишка, на радости падок,
Так же доверчив и так же раним.
Раньше я думал, что детство – лишь долька
Жизни людской.
Но, клянусь головой,
Жизнь человека – детство, и только,
С первого дня до черты роковой!
Детство мое, ты в горах начиналось,
Но я простился с землею родной,
И показалось мне: детство осталось
В крае отцовском, покинутом мной.
Мне показалось, что, умный и взрослый,
Глупое детство оставил,
а сам
Туфли надел я, чарыки я сбросил
И зашагал по чужим городам.
Думал я: зрелостью детство сменилось.
Слышалось мне: грохоча на ходу,
С громом арба по дороге катилась,
Лента мелькала, и время кружилось,
Словно волчок на расчищенном льду.
Но, завершая четвертый десяток,
Взрослым не стал я, хоть стал я седым.
Я, как мальчишка, на радости падок,
Так же доверчив и так же раним.
Раньше я думал, что детство – лишь долька
Жизни людской.
Но, клянусь головой,
Жизнь человека – детство, и только,
С первого дня до черты роковой!
Осень
I
Мы затворили окна поневоле
И не бежим купаться на заре.
Последние цветы увяли в поле,
И первый иней выпал на дворе.
Касатки с грустью маленькие гнезда
Покинули до будущей весны.
Пруд в желтых листьях:
кажется, что звезды
В его воде и днем отражены…
От спелых яблок ломятся базары.
Открыл букварь за партой мальчуган,
И слышно, как спускаются отары
С нагорных пастбищ, где лежит туман.
Гремя, как меч в разгаре поединка,
Летит поток седой Кара-Койсы,
В нем маленькая первая снежинка
Слилась с последней капелькой грозы.
Уже в долинах зеленеет озимь,
Шуршит листва на дикой алыче,
В плаще багряном к нам явилась осень
С корзинкой винограда на плече.
С улыбкой на охотника взглянула,
Присела с чабанами у огня.
Я возвращаюсь в город из аула.
Будь щедрой, осень: вдохнови меня!
Дай мне слова о милой, ненаглядной,
О ярком солнце, о земной любви,
Как ты даешь из грозди виноградной
Вино хмельное.
Осень, вдохнови!
II
Словно нехотя падают листья,
И пылает огнем мушмула.
Всюду шкуры расстелены лисьи:
Вот и осень пришла.
С тихой грустью касатка щебечет,
Уронила пушинку с крыла.
И цветы догорают, как свечи:
Вот и осень пришла.
Курдюки нагулявшие летом,
Овцы сходят к долинам тепла.
Горы хмурые смотрят вослед им:
Вот и осень пришла.
И печальна она и прекрасна,
Как душевная зрелость, светла.
И задумался я не напрасно:
Вот и осень пришла!
Помню весен промчавшихся мимо
Зеленеющие купола.
Лист упал, и в груди защемило:
Вот и осень пришла.
Впереди будут долгие ночи,
Будет стылая вьюга бела,
В печках красный поселится кочет:
Вот и осень пришла.
Затрубили ветра, как пророки,
И слезинка ползет вдоль стекла.
Лист иль сердце лежит на пороге?
Вот и осень пришла.
I
Мы затворили окна поневоле
И не бежим купаться на заре.
Последние цветы увяли в поле,
И первый иней выпал на дворе.
Касатки с грустью маленькие гнезда
Покинули до будущей весны.
Пруд в желтых листьях:
кажется, что звезды
В его воде и днем отражены…
От спелых яблок ломятся базары.
Открыл букварь за партой мальчуган,
И слышно, как спускаются отары
С нагорных пастбищ, где лежит туман.
Гремя, как меч в разгаре поединка,
Летит поток седой Кара-Койсы,
В нем маленькая первая снежинка
Слилась с последней капелькой грозы.
Уже в долинах зеленеет озимь,
Шуршит листва на дикой алыче,
В плаще багряном к нам явилась осень
С корзинкой винограда на плече.
С улыбкой на охотника взглянула,
Присела с чабанами у огня.
Я возвращаюсь в город из аула.
Будь щедрой, осень: вдохнови меня!
Дай мне слова о милой, ненаглядной,
О ярком солнце, о земной любви,
Как ты даешь из грозди виноградной
Вино хмельное.
Осень, вдохнови!
II
Словно нехотя падают листья,
И пылает огнем мушмула.
Всюду шкуры расстелены лисьи:
Вот и осень пришла.
С тихой грустью касатка щебечет,
Уронила пушинку с крыла.
И цветы догорают, как свечи:
Вот и осень пришла.
Курдюки нагулявшие летом,
Овцы сходят к долинам тепла.
Горы хмурые смотрят вослед им:
Вот и осень пришла.
И печальна она и прекрасна,
Как душевная зрелость, светла.
И задумался я не напрасно:
Вот и осень пришла!
Помню весен промчавшихся мимо
Зеленеющие купола.
Лист упал, и в груди защемило:
Вот и осень пришла.
Впереди будут долгие ночи,
Будет стылая вьюга бела,
В печках красный поселится кочет:
Вот и осень пришла.
Затрубили ветра, как пророки,
И слезинка ползет вдоль стекла.
Лист иль сердце лежит на пороге?
Вот и осень пришла.
Надпись на камне
Я б солгал, не сказав, сколько раз я страдал,
На Гунибе стоял с головою поникшей,
Видя надпись:
«На камне сем восседал
Князь Барятинский, здесь Шамиля пленивший...»
Для чего этот камень над вольной страной,
Над моею советской аварской землею,
Где аварские реки бегут подо мной,
Где орлы-земляки парят надо мною?
Я к реке, чтоб проверить себя, припаду
Всеми струями – странами всеми своими.
Мне вода столько раз, сколько к ней подойду,
Прошумит Шамиля незабытое имя.
Нет вершин, где б он не был в ночи или днем,
Нет ущелий, куда б он хоть раз не спустился,
Нет такого ручья, чтобы вместе с конем
После боя он жадно воды не напился.
Сколько кровью своей окропил он камней,
Сколько пуль по камням рядом с ним просвистало!
Смерть с ним рядом ходила, а он – рядом с ней,
И она все же первой устала.
Четверть века ждала, чтоб он дрогнул в бою,
Чтоб от раны смертельной в седле зашатался,
Чтоб хоть раз побледнел он и, шашку свою
Уронив, безоружным остался.
Эту шашку спросите об этой руке!
О чужих и своих несосчитанных ранах!
Быль и сказка, сливаясь, как струи в реке,
Нам расскажут о подвигах бранных.
Дагестан, Дагестан! Почему же тогда
Тот, чье имя России и миру знакомо,
Здесь, на скалах твоих, не оставил следа,
Почему о нем память – лишь в горле комом?
Почему на камне лишь имя врага?
Неужели тебе сыновья твои чужды?
Неужели нам ближе царский слуга,
Что заставил их бросить к ногам оружье,
Что аулы твои предавал огню,
Царской волею вольность твою ломая?
Пусть стоит этот камень. Я его сохраню,
Но как памятник я его не принимаю!
Я б солгал, не сказав, сколько раз я страдал,
На Гунибе стоял с головою поникшей,
Видя надпись:
«На камне сем восседал
Князь Барятинский, здесь Шамиля пленивший…»
Я проклятый вопрос домой уношу.
Дома Ленин глядит на меня с портрета.
«Товарищ Ленин, я вас прошу,
Ответьте: разве верно все это?»
И чудится мне, – прищурясь, в ответ
На этот вопрос откровенный
Ильич головою качает:
«Нет,
Товарищ Гамзатов, это неверно!»
Я б солгал, не сказав, сколько раз я страдал,
На Гунибе стоял с головою поникшей,
Видя надпись:
«На камне сем восседал
Князь Барятинский, здесь Шамиля пленивший...»
Для чего этот камень над вольной страной,
Над моею советской аварской землею,
Где аварские реки бегут подо мной,
Где орлы-земляки парят надо мною?
Я к реке, чтоб проверить себя, припаду
Всеми струями – странами всеми своими.
Мне вода столько раз, сколько к ней подойду,
Прошумит Шамиля незабытое имя.
Нет вершин, где б он не был в ночи или днем,
Нет ущелий, куда б он хоть раз не спустился,
Нет такого ручья, чтобы вместе с конем
После боя он жадно воды не напился.
Сколько кровью своей окропил он камней,
Сколько пуль по камням рядом с ним просвистало!
Смерть с ним рядом ходила, а он – рядом с ней,
И она все же первой устала.
Четверть века ждала, чтоб он дрогнул в бою,
Чтоб от раны смертельной в седле зашатался,
Чтоб хоть раз побледнел он и, шашку свою
Уронив, безоружным остался.
Эту шашку спросите об этой руке!
О чужих и своих несосчитанных ранах!
Быль и сказка, сливаясь, как струи в реке,
Нам расскажут о подвигах бранных.
Дагестан, Дагестан! Почему же тогда
Тот, чье имя России и миру знакомо,
Здесь, на скалах твоих, не оставил следа,
Почему о нем память – лишь в горле комом?
Почему на камне лишь имя врага?
Неужели тебе сыновья твои чужды?
Неужели нам ближе царский слуга,
Что заставил их бросить к ногам оружье,
Что аулы твои предавал огню,
Царской волею вольность твою ломая?
Пусть стоит этот камень. Я его сохраню,
Но как памятник я его не принимаю!
Я б солгал, не сказав, сколько раз я страдал,
На Гунибе стоял с головою поникшей,
Видя надпись:
«На камне сем восседал
Князь Барятинский, здесь Шамиля пленивший…»
Я проклятый вопрос домой уношу.
Дома Ленин глядит на меня с портрета.
«Товарищ Ленин, я вас прошу,
Ответьте: разве верно все это?»
И чудится мне, – прищурясь, в ответ
На этот вопрос откровенный
Ильич головою качает:
«Нет,
Товарищ Гамзатов, это неверно!»