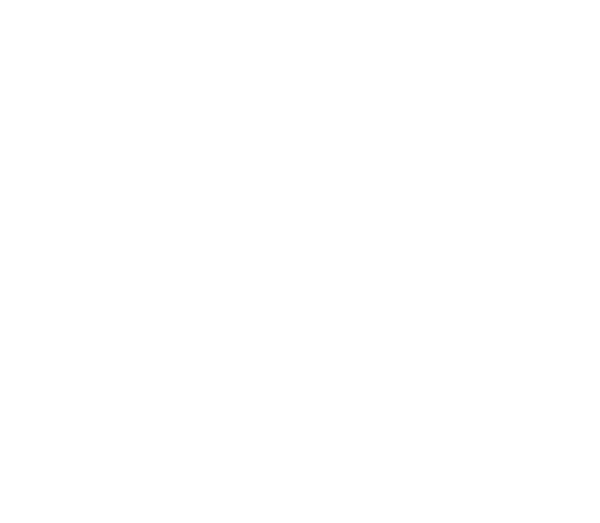1966
Из книги "Мулатка"
Расул Гамзатов
- Изрек пророк
- Три страстных желанья
- Мулатка
- Верное слово
- Зря познал я усердье
- Навстречу людям, всюду с ними в ногу
- Два аула
- "Все в мире плохо, и порядка нет"
- Не бойся врагов, стихотворец
- На свадьбы не ходите вы, поэты
- Диалог
- Не торопись
- С годами изменяемся немало
- Пришла пора задуть огни селеньям
- Шумел, что ни день, я мальчишка крикливый
- Вьется снег, как белый прах
- Мама
- Взглянув на круг гончарный в глине
- Поговорим о бурных днях Кавказа
- Сеньорина
Изрек пророк...
Изрек пророк:
«Нет бога, кроме бога!»
Я говорю:
«Нет мамы, кроме мамы!..»
Никто меня не встретит у порога,
Где сходятся тропинки, словно шрамы.
Вхожу и вижу четки,
на которых
Она в разлуке, сидя одиноко,
Считала ночи, черные, как порох,
И белы дни, летящие с востока.
Кто разожжет теперь огонь в камине,
Чтобы зимой согрелся я с дороги?
Кто мне, любя, грехи отпустит ныне
И за меня помолится в тревоге?
Я в руки взял Коран тисненый строго,
Пред ним склонялись грозные имамы.
Он говорит:
«Нет бога, кроме бога!»
Я говорю:
«Нет мамы, кроме мамы!»
Изрек пророк:
«Нет бога, кроме бога!»
Я говорю:
«Нет мамы, кроме мамы!..»
Никто меня не встретит у порога,
Где сходятся тропинки, словно шрамы.
Вхожу и вижу четки,
на которых
Она в разлуке, сидя одиноко,
Считала ночи, черные, как порох,
И белы дни, летящие с востока.
Кто разожжет теперь огонь в камине,
Чтобы зимой согрелся я с дороги?
Кто мне, любя, грехи отпустит ныне
И за меня помолится в тревоге?
Я в руки взял Коран тисненый строго,
Пред ним склонялись грозные имамы.
Он говорит:
«Нет бога, кроме бога!»
Я говорю:
«Нет мамы, кроме мамы!»
Три страстных желанья...
Три страстных желанья –
одно к одному –
Душа во мне пламенно будит…
Еще одну женщину я обниму,
А после – что будет, то будет.
Еще один рог за столом осушу,
За это сам бог не осудит.
Еще один стих о любви напишу,
А после – что будет, то будет.
Я женщину обнял, но словно она
Не та, что светила надежде.
И уксусом кажутся капли вина,
И стих не искрится, как прежде.
И пущенный кем-то обидный хабар
Над горной летит стороною
О том, что угас моей лихости жар
И конь захромал подо мною.
Себя отпевать я не дам никому,
Покуда, –
пусть мир не забудет, –
Еще одну женщину не обниму,
А после – что будет, то будет.
Покуда еще один рог не допью
И, каждое взвесив словечко,
Покуда стрелу не заставлю свою
Попасть в золотое колечко.
Я звезды зажгу у стиха в головах,
И время его не остудит.
И вы удивленно воскликнете:
«Вах!»…
А после – что будет, то будет.
Три страстных желанья –
одно к одному –
Душа во мне пламенно будит…
Еще одну женщину я обниму,
А после – что будет, то будет.
Еще один рог за столом осушу,
За это сам бог не осудит.
Еще один стих о любви напишу,
А после – что будет, то будет.
Я женщину обнял, но словно она
Не та, что светила надежде.
И уксусом кажутся капли вина,
И стих не искрится, как прежде.
И пущенный кем-то обидный хабар
Над горной летит стороною
О том, что угас моей лихости жар
И конь захромал подо мною.
Себя отпевать я не дам никому,
Покуда, –
пусть мир не забудет, –
Еще одну женщину не обниму,
А после – что будет, то будет.
Покуда еще один рог не допью
И, каждое взвесив словечко,
Покуда стрелу не заставлю свою
Попасть в золотое колечко.
Я звезды зажгу у стиха в головах,
И время его не остудит.
И вы удивленно воскликнете:
«Вах!»…
А после – что будет, то будет.
И в сферах звездного порядка,
Печаль и радость нам суля,
Лети, прекрасная мулатка –
Планета с именем Земля!
Печаль и радость нам суля,
Лети, прекрасная мулатка –
Планета с именем Земля!
Мулатка
Вновь половинчатой, неспелой
Взошла над островом луна,
И одинокой лодкой белой
Скользила по небу она.
И ночь шуршала черным шелком,
И ночи африканский лик
В Сантьяго вдруг на камнях желтых
Воочью предо мной возник.
Невдалеке плела узоры
Речушка, вольности полна,
Невидимого дирижера
Казалась палочкой она.
И две мулатки песню пели,
В словах искрились угольки,
Горячих губ, что пламенели,
Слегка белели уголки.
Пленен был песней этой сразу
И оценил ее чекан
Я – горец, преданный Кавказу,
Перелетевший океан.
Слова в ней были как загадки,
Но лишь для слуха моего.
Ах, где вы взяли их, мулатки?
Петь научились у кого?
Быть может, трепетно и смело,
Вблизи карибского кольца,
Так мама черная вам пела
Про белоликого отца?
Иль, может, так в открытом море
Отец ваш черный
При луне
О белолицей пел сеньоре –
Своей возлюбленной жене?
Отца и матери напевы,
Отца и матери черты
Вам путь открыли в королевы
На карнавалах красоты.
О Куба, гордая мулатка,
Был от тебя я без ума,
Ты королева, и солдатка,
И революция сама.
И жизнь свою считать я тоже
Давно мулаткою привык,
Чья мать от века – чернокожа,
Отец от века – белолик.
И мама черная пусть будет
Дарить мне сон, задув ночник.
Пусть на заре в горах разбудит
Меня отец, что белолик.
И песнь моя – мулатка тоже,
И, верный не календарю,
Порой то ласковей, то строже
Ее устами говорю.
И в сферах звездного порядка,
Печаль и радость нам суля,
Лети, прекрасная мулатка –
Планета с именем Земля!
Вновь половинчатой, неспелой
Взошла над островом луна,
И одинокой лодкой белой
Скользила по небу она.
И ночь шуршала черным шелком,
И ночи африканский лик
В Сантьяго вдруг на камнях желтых
Воочью предо мной возник.
Невдалеке плела узоры
Речушка, вольности полна,
Невидимого дирижера
Казалась палочкой она.
И две мулатки песню пели,
В словах искрились угольки,
Горячих губ, что пламенели,
Слегка белели уголки.
Пленен был песней этой сразу
И оценил ее чекан
Я – горец, преданный Кавказу,
Перелетевший океан.
Слова в ней были как загадки,
Но лишь для слуха моего.
Ах, где вы взяли их, мулатки?
Петь научились у кого?
Быть может, трепетно и смело,
Вблизи карибского кольца,
Так мама черная вам пела
Про белоликого отца?
Иль, может, так в открытом море
Отец ваш черный
При луне
О белолицей пел сеньоре –
Своей возлюбленной жене?
Отца и матери напевы,
Отца и матери черты
Вам путь открыли в королевы
На карнавалах красоты.
О Куба, гордая мулатка,
Был от тебя я без ума,
Ты королева, и солдатка,
И революция сама.
И жизнь свою считать я тоже
Давно мулаткою привык,
Чья мать от века – чернокожа,
Отец от века – белолик.
И мама черная пусть будет
Дарить мне сон, задув ночник.
Пусть на заре в горах разбудит
Меня отец, что белолик.
И песнь моя – мулатка тоже,
И, верный не календарю,
Порой то ласковей, то строже
Ее устами говорю.
И в сферах звездного порядка,
Печаль и радость нам суля,
Лети, прекрасная мулатка –
Планета с именем Земля!
Верное слово
Время, время! О нем горячо,
И правдиво писали, и ново,
Но все кажется мне, что еще
Не сказали мы верного слова.
Это слово ищу на земле
Я – невольник раздумья и чести,
Как печальная ищет во мгле
Память сердца пропавших без вести.
Для того, кто коснулся стремян,
Но тропы не находит к порогу,
Это слово ищу, как в буран
Ищет лошадь седая дорогу.
«Где болит у тебя, мой сынок?»
Мать над люлькой склоняется снова.
Так, во власти любви и тревог,
Я ищу это верное слово.
Где найти его?
Мучаюсь я
И над бездною горного склона
Это слово ищу, как судья
Ищет истину ради закона.
И пускай даже завтра умру, –
Мне ль бояться удела такого,
Если я, призывавший к добру,
Отыщу это верное слово?
Время, время! О нем горячо,
И правдиво писали, и ново,
Но все кажется мне, что еще
Не сказали мы верного слова.
Это слово ищу на земле
Я – невольник раздумья и чести,
Как печальная ищет во мгле
Память сердца пропавших без вести.
Для того, кто коснулся стремян,
Но тропы не находит к порогу,
Это слово ищу, как в буран
Ищет лошадь седая дорогу.
«Где болит у тебя, мой сынок?»
Мать над люлькой склоняется снова.
Так, во власти любви и тревог,
Я ищу это верное слово.
Где найти его?
Мучаюсь я
И над бездною горного склона
Это слово ищу, как судья
Ищет истину ради закона.
И пускай даже завтра умру, –
Мне ль бояться удела такого,
Если я, призывавший к добру,
Отыщу это верное слово?
Зря познал я усердье...
Зря познал я усердье
И касался пера.
Зря будил милосердье
Я во имя добра.
Зря кружил по планете,
Что тревоги полна.
Все дороги на свете –
Как дорога одна.
Зря огонь мне завещан.
И влюблен допьяна
Зря был в тысячу женщин, –
Все они как одна.
Зря с невеждами споры
Вел я в поте лица, –
Раньше рухнут все горы,
Чем оспоришь глупца.
Зря оплакивал мертвых,
Если сам я уйду
В царство временем стертых
У живых на виду.
Зря я верил в удачу
В пору худшего дня.
Кто таков я? Что значу?
Может, нету меня?
«Нет, не зря!» –
словно дочка,
Мне из тысяч одна
Отвечает та строчка,
Что осталась верна.
«Нет, не зря!» –
произносит
Та из женщин одна,
Что сгорала, как осень,
И была мне верна.
«Нет, не зря!» –
в час заката
Шепчет красный листок,
Что воспет мной когда-то
И летит между строк.
«Нет, не зря!» –
И терновник
Рвет ступни моих ног.
«Нет не зря!» –
И мой кровник
Тайно взводит курок.
И над кручей отвесной
Снова в холод и в зной
То вдовой, то невестой
Жизнь встает предо мной!
Зря познал я усердье
И касался пера.
Зря будил милосердье
Я во имя добра.
Зря кружил по планете,
Что тревоги полна.
Все дороги на свете –
Как дорога одна.
Зря огонь мне завещан.
И влюблен допьяна
Зря был в тысячу женщин, –
Все они как одна.
Зря с невеждами споры
Вел я в поте лица, –
Раньше рухнут все горы,
Чем оспоришь глупца.
Зря оплакивал мертвых,
Если сам я уйду
В царство временем стертых
У живых на виду.
Зря я верил в удачу
В пору худшего дня.
Кто таков я? Что значу?
Может, нету меня?
«Нет, не зря!» –
словно дочка,
Мне из тысяч одна
Отвечает та строчка,
Что осталась верна.
«Нет, не зря!» –
произносит
Та из женщин одна,
Что сгорала, как осень,
И была мне верна.
«Нет, не зря!» –
в час заката
Шепчет красный листок,
Что воспет мной когда-то
И летит между строк.
«Нет, не зря!» –
И терновник
Рвет ступни моих ног.
«Нет не зря!» –
И мой кровник
Тайно взводит курок.
И над кручей отвесной
Снова в холод и в зной
То вдовой, то невестой
Жизнь встает предо мной!
Навстречу людям, всюду с ними в ногу
П. Антокольский
Я думал, ты состарился, учитель,
Коль от московских улиц вдалеке,
Среди покоя, загородный житель,
Встречаешь зори с посохом в руке.
Еще я так решил не потому ли,
Что сам почти записан в старики,
Как все твои ходившие под пули,
Известные теперь ученики?
Прости меня!
Ты молод беспредельно
И стар в году бываешь только раз,
Когда твой мальчик, раненный смертельно,
Сквозь даль тебя зовет в последний час.
Считать года – твоя ли это участь?
Еще душа звенит, как тетива.
Живет в стихах чеканная певучесть,
И жарче красных соколов слова.
Не веря разгулявшемуся вздору,
Когда-то я через бульвар Тверской
Шагал к тебе в отчаянную пору,
Бросая вызов подлости людской…
Казалось мне, что опустил ты руки,
Приемля незадачливый удел,
Но ты работал и в блаженной муке
На мир, как прежде, с удалью глядел.
И понял я, какой достоин чести
Ты, добрый гений, и какой любви
И как ничтожны с вымыслом их вместе
Надменные гонители твои.
Им отомстить мы тем смогли жестко,
Что обошли беседою их ложь.
Ты говорил про Пушкина и Блока
И чем то на пророка был похож.
Учитель мой,
весь век поэты юны.
Влюбляйся вновь, летам наперекор,
И выходи стихи читать с трибуны,
Как молодой вахтанговский актер.
Дел у тебя хватает, слава богу,
Пусть только сердце больше не болит.
«Навстречу людям, всюду с ними в ногу!» –
Я говорю, как верный твои мюрид.
П. Антокольский
Я думал, ты состарился, учитель,
Коль от московских улиц вдалеке,
Среди покоя, загородный житель,
Встречаешь зори с посохом в руке.
Еще я так решил не потому ли,
Что сам почти записан в старики,
Как все твои ходившие под пули,
Известные теперь ученики?
Прости меня!
Ты молод беспредельно
И стар в году бываешь только раз,
Когда твой мальчик, раненный смертельно,
Сквозь даль тебя зовет в последний час.
Считать года – твоя ли это участь?
Еще душа звенит, как тетива.
Живет в стихах чеканная певучесть,
И жарче красных соколов слова.
Не веря разгулявшемуся вздору,
Когда-то я через бульвар Тверской
Шагал к тебе в отчаянную пору,
Бросая вызов подлости людской…
Казалось мне, что опустил ты руки,
Приемля незадачливый удел,
Но ты работал и в блаженной муке
На мир, как прежде, с удалью глядел.
И понял я, какой достоин чести
Ты, добрый гений, и какой любви
И как ничтожны с вымыслом их вместе
Надменные гонители твои.
Им отомстить мы тем смогли жестко,
Что обошли беседою их ложь.
Ты говорил про Пушкина и Блока
И чем то на пророка был похож.
Учитель мой,
весь век поэты юны.
Влюбляйся вновь, летам наперекор,
И выходи стихи читать с трибуны,
Как молодой вахтанговский актер.
Дел у тебя хватает, слава богу,
Пусть только сердце больше не болит.
«Навстречу людям, всюду с ними в ногу!» –
Я говорю, как верный твои мюрид.
Расстался третий с временем лихим,
Прослыв великим, смерти не подвластным.
Все то, что плохо, он назвал плохим,
А что прекрасно, он назвал прекрасным.
Прослыв великим, смерти не подвластным.
Все то, что плохо, он назвал плохим,
А что прекрасно, он назвал прекрасным.
Два аула
Облеченный уделом подлунным,
Стихотворец Гамзатов Расул,
В этом мире извечном и юном
К двум аулам я сердцем прильнул.
И один из них обетованный,
Где меня под напев родника
Ветер в люльке качал деревянной,
Запеленатого в облака.
Там огонь развожу я в камине,
Вижу месяц у самых окон,
Там больных навещаю поныне,
Тайно плачу во дни похорон.
А другой мой аул в этом мире –
Белый свет,
что распахнут всегда
И лежит предо мной на четыре
Стороны от аула Цада.
Рубежи разделяют в нем страны,
Как дувалы в селеньях дворы.
Словно улочки, меридианы
Пролегают с далекой поры.
На округлых просторах планеты
Он меняет свой облик в веках.
И писали и пишут поэты
В том ауле на ста языках.
И, о нем только вкратце поведав,
В дополненье скажу, не тая,
Что Великим Аулом Поэтов
Величаю аул этот я.
Безраздельно,
по мнению горцев,
Все принять наша муза должна.
Хоть от этого жизнь стихотворцев
Сокращалась во все времена...
В песнях Бернса и удаль и сила,
Но поэта шотландской земли
В день рождения пятого сына
Молодым на погост отнесли.
Тяжки плиты с надгробной насечкой,
Но посмертным летят большаком
И сраженный над Черною речкой,
И застреленный под Машуком.
На колени упав,
поклониться,
Засветив поминанья свечу,
Я хочу Тициану Табидзе,
Да могилы его не сыщу.
В Переделкине
в мареве света
Три печальные вижу сосны,
Что стоят над могилой поэта,
Словно три неразлучных сестры.
На крови белоликих рассветов
Дни замешены.
И не секрет,
Что с Великим Аулом Поэтов
Кровно связан я с памятных лет.
Там взводились курки пистолетов,
В тишине отмерялись шаги.
И поныне в Ауле Поэтов
У поэтов бывают враги.
Научились стрелять они метко,
Клеветой заменив пистолет.
С разорвавшимся сердцем нередко
Умирает не старый поэт.
И в Цада,
и в гнездовье огромном
Всех почивших бывает мне жаль.
И в собранье скорбей многотомном
Их моя не обходит печаль.
Путь оставшийся зрительно смерьте,
Не стремитесь,
чтоб был он пухов.
Избегающий мысли о смерти
Не напишет хороших стихов.
И с поэтов заоблачной пробы
Время многие спишет грехи,
Только надо для этого,
чтобы
Пережить их сумели стихи.
Облеченный уделом подлунным,
Стихотворец Гамзатов Расул,
В этом мире извечном и юном
К двум аулам я сердцем прильнул.
И один из них обетованный,
Где меня под напев родника
Ветер в люльке качал деревянной,
Запеленатого в облака.
Там огонь развожу я в камине,
Вижу месяц у самых окон,
Там больных навещаю поныне,
Тайно плачу во дни похорон.
А другой мой аул в этом мире –
Белый свет,
что распахнут всегда
И лежит предо мной на четыре
Стороны от аула Цада.
Рубежи разделяют в нем страны,
Как дувалы в селеньях дворы.
Словно улочки, меридианы
Пролегают с далекой поры.
На округлых просторах планеты
Он меняет свой облик в веках.
И писали и пишут поэты
В том ауле на ста языках.
И, о нем только вкратце поведав,
В дополненье скажу, не тая,
Что Великим Аулом Поэтов
Величаю аул этот я.
Безраздельно,
по мнению горцев,
Все принять наша муза должна.
Хоть от этого жизнь стихотворцев
Сокращалась во все времена...
В песнях Бернса и удаль и сила,
Но поэта шотландской земли
В день рождения пятого сына
Молодым на погост отнесли.
Тяжки плиты с надгробной насечкой,
Но посмертным летят большаком
И сраженный над Черною речкой,
И застреленный под Машуком.
На колени упав,
поклониться,
Засветив поминанья свечу,
Я хочу Тициану Табидзе,
Да могилы его не сыщу.
В Переделкине
в мареве света
Три печальные вижу сосны,
Что стоят над могилой поэта,
Словно три неразлучных сестры.
На крови белоликих рассветов
Дни замешены.
И не секрет,
Что с Великим Аулом Поэтов
Кровно связан я с памятных лет.
Там взводились курки пистолетов,
В тишине отмерялись шаги.
И поныне в Ауле Поэтов
У поэтов бывают враги.
Научились стрелять они метко,
Клеветой заменив пистолет.
С разорвавшимся сердцем нередко
Умирает не старый поэт.
И в Цада,
и в гнездовье огромном
Всех почивших бывает мне жаль.
И в собранье скорбей многотомном
Их моя не обходит печаль.
Путь оставшийся зрительно смерьте,
Не стремитесь,
чтоб был он пухов.
Избегающий мысли о смерти
Не напишет хороших стихов.
И с поэтов заоблачной пробы
Время многие спишет грехи,
Только надо для этого,
чтобы
Пережить их сумели стихи.
"Все в мире плохо и порядка нет..."
«Все в мире плохо и порядка нет!» –
Сказал поэт и белый свет покинул.
«Прекрасен мир», – сказал другой поэт
И белый свет в расцвете лет покинул.
Расстался третий с временем лихим,
Прослыв великим, смерти не подвластным.
Все то, что плохо, он назвал плохим,
А что прекрасно, он назвал прекрасным.
«Все в мире плохо и порядка нет!» –
Сказал поэт и белый свет покинул.
«Прекрасен мир», – сказал другой поэт
И белый свет в расцвете лет покинул.
Расстался третий с временем лихим,
Прослыв великим, смерти не подвластным.
Все то, что плохо, он назвал плохим,
А что прекрасно, он назвал прекрасным.
Не бойся врагов, стихотворец...
«Не бойся врагов, стихотворец! Взгляни,
Как верных друзей твоих много везде!»
«А если в день черный изменят они?»
«Не бойся! Жена не оставит в беде!»
«А если изменит жена?» – «Ничего!
Есть отчие горы в рассветном дыму».
«Чего же бояться тогда?» – «Одного:
Опасной измены себе самому!»
«Не бойся врагов, стихотворец! Взгляни,
Как верных друзей твоих много везде!»
«А если в день черный изменят они?»
«Не бойся! Жена не оставит в беде!»
«А если изменит жена?» – «Ничего!
Есть отчие горы в рассветном дыму».
«Чего же бояться тогда?» – «Одного:
Опасной измены себе самому!»
На свадьбы не ходите вы, поэты
На свадьбы не ходите вы,
поэты,
Там кружится у многих голова,
И золотые дутые браслеты
Лукавство надевает на слова.
Там забывают все,
что вы пророки,
И требуют, бокалами звеня:
«В костер веселья бросьте ваши строки
Для поддержанья праздного огня!»
На свадьбы не ходите вы,
поэты,
Там искушают медом всякий раз,
И юным людям подают советы
Авторитеты, что превыше вас.
Там оды ждут, и потому из моды
Еще не вышла ода до сих пор,
А тамада лишает вас свободы
Порядку поступить наперекор.
На свадьбы не ходите вы,
поэты,
Порой коварен их
заздравный нрав.
На горской свадьбе –
все к тому приметы –
Отравлен был поэт Эльдарэлав.
И, смолоду любовью отуманен,
От облаков воспетых не вдали,
На горской свадьбе
был смертельно ранен
Поэт Махмуд в ауле Иргали.
На свадьбы не ходите вы,
поэты,
Погибнете на них, не ровен час.
Парадные приемы и банкеты,
Где слишком шумно,
тоже не для вас.
Дурнушки пред своими женихами
Рядятся в яркий свадебный наряд.
Не все стихи становятся стихами,
Хоть увенчай их лаврами наград.
На свадьбы не ходите вы,
поэты,
На них бывал я, и, поверьте мне,
Не слышно там,
как стонут лазареты,
Как сирота отца зовет во сне.
Гремят в горах на свадьбах барабаны,
Но чтоб достичь заветной высоты,
Ваш долг – быть там,
где наболели раны,
Когда поэты вы, а не шуты.
На свадьбы не ходите вы,
поэты, –
Где светит солнце,
лампы не нужны,
Но там, где сумрак темен,
как наветы,
Просветы в нем вы пробивать должны.
Умершего в путь дальний проводите,
И помяните, и живите век,
И пряникам медовым
предпочтите
Сухой от неподкупности чурек.
На свадьбы не ходите вы,
поэты,
Там кружится у многих голова,
И золотые дутые браслеты
Лукавство надевает на слова.
Там забывают все,
что вы пророки,
И требуют, бокалами звеня:
«В костер веселья бросьте ваши строки
Для поддержанья праздного огня!»
На свадьбы не ходите вы,
поэты,
Там искушают медом всякий раз,
И юным людям подают советы
Авторитеты, что превыше вас.
Там оды ждут, и потому из моды
Еще не вышла ода до сих пор,
А тамада лишает вас свободы
Порядку поступить наперекор.
На свадьбы не ходите вы,
поэты,
Порой коварен их
заздравный нрав.
На горской свадьбе –
все к тому приметы –
Отравлен был поэт Эльдарэлав.
И, смолоду любовью отуманен,
От облаков воспетых не вдали,
На горской свадьбе
был смертельно ранен
Поэт Махмуд в ауле Иргали.
На свадьбы не ходите вы,
поэты,
Погибнете на них, не ровен час.
Парадные приемы и банкеты,
Где слишком шумно,
тоже не для вас.
Дурнушки пред своими женихами
Рядятся в яркий свадебный наряд.
Не все стихи становятся стихами,
Хоть увенчай их лаврами наград.
На свадьбы не ходите вы,
поэты,
На них бывал я, и, поверьте мне,
Не слышно там,
как стонут лазареты,
Как сирота отца зовет во сне.
Гремят в горах на свадьбах барабаны,
Но чтоб достичь заветной высоты,
Ваш долг – быть там,
где наболели раны,
Когда поэты вы, а не шуты.
На свадьбы не ходите вы,
поэты, –
Где светит солнце,
лампы не нужны,
Но там, где сумрак темен,
как наветы,
Просветы в нем вы пробивать должны.
Умершего в путь дальний проводите,
И помяните, и живите век,
И пряникам медовым
предпочтите
Сухой от неподкупности чурек.
Диалог
«Скажи...» – «О чем?»
«Про жизнь тебя спросила я...»
«Живется мне неважно...»
«Отчего?»
«Наверно, оттого, что знаешь, милая,
Как я живу, ты лучше моего».
«Ха-ха-ха-ха! Быть может, я провидица...»
«Не смейся, дорогая. Не хитри.
Тебе и опустевшие все видятся,
И полные мои все газыри».
«В познаниях любовь не ищет выгоды...»
«И между тем я грусти предаюсь,
Что, словно в доме, ходы все и выходы
В моей душе ты знаешь наизусть.
Где нежный взгляд, который был восторженным,
Как в миг первооткрытия, не раз?
Как будто время обернулось коршуном
И удивленье выкрало из глаз!
До срока слово каждое услышано,
С любой загадки сорвана печать.
Что низменно во мне,
а что возвышенно,
Давным-давно смогла ты разгадать».
«Не самому ли все тебе наскучило?
Ты прошлому не хочешь быть слугой
И на него взираешь, как на чучело
Когда-то яркой птицы дорогой».
«Ты не права. Ты говоришь нелепости.
Своей не отрицаю я вины:
Перед тобою пали стены крепости,
А эти стены падать не должны.
Смеешься?»
«Нет! Еще вчера считала я,
Ты ведом мне,
но вижу – не права,
И для меня такая небывалая
Печаль твоя действительно нова».
«Скажи...» – «О чем?»
«Про жизнь тебя спросила я...»
«Живется мне неважно...»
«Отчего?»
«Наверно, оттого, что знаешь, милая,
Как я живу, ты лучше моего».
«Ха-ха-ха-ха! Быть может, я провидица...»
«Не смейся, дорогая. Не хитри.
Тебе и опустевшие все видятся,
И полные мои все газыри».
«В познаниях любовь не ищет выгоды...»
«И между тем я грусти предаюсь,
Что, словно в доме, ходы все и выходы
В моей душе ты знаешь наизусть.
Где нежный взгляд, который был восторженным,
Как в миг первооткрытия, не раз?
Как будто время обернулось коршуном
И удивленье выкрало из глаз!
До срока слово каждое услышано,
С любой загадки сорвана печать.
Что низменно во мне,
а что возвышенно,
Давным-давно смогла ты разгадать».
«Не самому ли все тебе наскучило?
Ты прошлому не хочешь быть слугой
И на него взираешь, как на чучело
Когда-то яркой птицы дорогой».
«Ты не права. Ты говоришь нелепости.
Своей не отрицаю я вины:
Перед тобою пали стены крепости,
А эти стены падать не должны.
Смеешься?»
«Нет! Еще вчера считала я,
Ты ведом мне,
но вижу – не права,
И для меня такая небывалая
Печаль твоя действительно нова».
Не торопись
Ты, на заре проснувшись, сделай милость,
Еще хоть миг с собой наедине
Побудь и вспомни все, что ночью снилось:
Смеялся или плакал ты во сне!
И глянь в окно: какая там погода,
Туманна ли округа иль светла?
Метет ли снег до края небосвода
Иль катятся дождинки вдоль стекла?
И если в этот час не бьет тревога,
Вдали обвалом сакли не снесло,
Не торопись и дьяволом с порога
Не прыгай, милый, в горское седло.
Не торопись, как деды завещали,
И всякий раз, с обычаем в ладу,
До каменной околицы вначале
Веди коня лихого в поводу.
Как часто мы, куда-то путь направив,
Брать скакунов не любим под уздцы
И, шпорами бока им окровавив,
Летим быстрей, чем царские гонцы.
У нас рубахи выцвели от соли
И капли пота льются на виски.
Позабываем спешиться мы в поле,
Остановиться около реки.
Ценить не научились мы поныне
Высоких слов
и запросто порой,
Что произносят тихо на вершине,
Выкрикиваем громко под горой.
Нам осадить коней бы по старинке
Перед аулом,
мудрыми слывя,
Чтоб разузнать, в нем свадьба иль поминки,
А мы влетаем голову сломя.
Герои оклеветанные пали
Не на дуэлях в наши времена,
Чьи в запоздалой, но святой печали
Воскрешены бесстрашно имена.
Не выносите спешных приговоров,
Не присуждайте наскоро наград,
Чтоб не краснеть, чтоб избежать укоров,
Когда в пути оглянетесь назад.
И мужество должно владеть собою!
Кто тороплив, кто ветреней молвы,
Тот без коня вернется с поля боя
Или верхом без глупой головы.
Я не зову к покою или спячке,
Я сам люблю дыхание грозы,
Но жизнь есть жизнь, а не бега, не скачки,
И в жизни добывают не призы.
Учи, поэт, суровые уроки
И не бери без боя города,
Чтоб наскоро написанные строки
Не рвать потом, сгорая от стыда.
Ты сел в седло, веселый иль угрюмый,
Не торопись, уму не прекословь,
На полпути, остановись, подумай,
И оглянись, и путь продолжи вновь!
Ты, на заре проснувшись, сделай милость,
Еще хоть миг с собой наедине
Побудь и вспомни все, что ночью снилось:
Смеялся или плакал ты во сне!
И глянь в окно: какая там погода,
Туманна ли округа иль светла?
Метет ли снег до края небосвода
Иль катятся дождинки вдоль стекла?
И если в этот час не бьет тревога,
Вдали обвалом сакли не снесло,
Не торопись и дьяволом с порога
Не прыгай, милый, в горское седло.
Не торопись, как деды завещали,
И всякий раз, с обычаем в ладу,
До каменной околицы вначале
Веди коня лихого в поводу.
Как часто мы, куда-то путь направив,
Брать скакунов не любим под уздцы
И, шпорами бока им окровавив,
Летим быстрей, чем царские гонцы.
У нас рубахи выцвели от соли
И капли пота льются на виски.
Позабываем спешиться мы в поле,
Остановиться около реки.
Ценить не научились мы поныне
Высоких слов
и запросто порой,
Что произносят тихо на вершине,
Выкрикиваем громко под горой.
Нам осадить коней бы по старинке
Перед аулом,
мудрыми слывя,
Чтоб разузнать, в нем свадьба иль поминки,
А мы влетаем голову сломя.
Герои оклеветанные пали
Не на дуэлях в наши времена,
Чьи в запоздалой, но святой печали
Воскрешены бесстрашно имена.
Не выносите спешных приговоров,
Не присуждайте наскоро наград,
Чтоб не краснеть, чтоб избежать укоров,
Когда в пути оглянетесь назад.
И мужество должно владеть собою!
Кто тороплив, кто ветреней молвы,
Тот без коня вернется с поля боя
Или верхом без глупой головы.
Я не зову к покою или спячке,
Я сам люблю дыхание грозы,
Но жизнь есть жизнь, а не бега, не скачки,
И в жизни добывают не призы.
Учи, поэт, суровые уроки
И не бери без боя города,
Чтоб наскоро написанные строки
Не рвать потом, сгорая от стыда.
Ты сел в седло, веселый иль угрюмый,
Не торопись, уму не прекословь,
На полпути, остановись, подумай,
И оглянись, и путь продолжи вновь!
Не выносите спешных приговоров,
Не присуждайте наскоро наград,
Чтоб не краснеть, чтоб избежать укоров,
Когда в пути оглянетесь назад.
Не присуждайте наскоро наград,
Чтоб не краснеть, чтоб избежать укоров,
Когда в пути оглянетесь назад.
С годами изменяемся немало...
С годами изменяемся немало.
Вот на меня три женщины глядят.
«Ты лучше был», –
одна из них сказала.
Я с ней встречался десять лет назад.
Касаясь гор заснеженного края,
Вдали пылает огненный закат.
«Ты все такой же», – говорит вторая,
Забытая пять лет тому назад.
А третья, рук не размыкая милых,
Мне жарко шепчет, трепета полна:
«Ты хуже был... Скажи, что не любил их…»
Каким я был, не ведает она.
С годами изменяемся немало.
Вот на меня три женщины глядят.
«Ты лучше был», –
одна из них сказала.
Я с ней встречался десять лет назад.
Касаясь гор заснеженного края,
Вдали пылает огненный закат.
«Ты все такой же», – говорит вторая,
Забытая пять лет тому назад.
А третья, рук не размыкая милых,
Мне жарко шепчет, трепета полна:
«Ты хуже был... Скажи, что не любил их…»
Каким я был, не ведает она.
Пришла пора задуть огни селеньям...
Пришла пора задуть огни селеньям.
Спокойной ночи, люди!
Надо спать.
И, в дом сойдя по каменным ступеням,
Гашу я лампу и ложусь в кровать.
Но почему глаза мои открыты
И нет покоя мыслям в голове?
Раскалены их поздние орбиты,
Как жар на неостывшей головне.
И вижу,
сдавшись времени на милость,
Оставшийся с былым наедине:
Я не один в себе, как раньше мнилось,
Два человека ужились во мне.
В дали туманной годы как планеты,
И, верный их загадочной судьбе,
Раздвоенного времени приметы
Я чувствую мучительно в себе.
Когда и где попутать смог лукавый,
Но кажется,
два сердца мне даны:
Одно в груди постукивает с правой,
Горит другое с левой стороны.
А на плечах,
как будто две вершины,
Две головы ношу я с давних пор.
Воинственен их спор не без причины,
И не поможет здесь парламентер.
И сам с собой дерусь я на дуэли,
И прошлое темнеет, словно лес.
И не могу понять еще доселе,
Когда я Пушкин, а когда Дантес.
И слезы лью, и веселюсь, пируя,
Кричу, едва губами шевеля.
И сам себя победно в плен беру я,
Как белый император Шамиля.
У славы и бесславия во власти
Летели годы, месяцы и дни,
И, выкормив, держали на запястье
Голубку и стервятника они.
Ничто в минувшем не переиначить,
Я сам себе защитник и судья.
О ты, моя комедия, что плачешь?
Смеешься что, трагедия моя?
Пришла пора задуть огни селеньям.
Спокойной ночи, люди!
Надо спать.
И, в дом сойдя по каменным ступеням,
Гашу я лампу и ложусь в кровать.
Но почему глаза мои открыты
И нет покоя мыслям в голове?
Раскалены их поздние орбиты,
Как жар на неостывшей головне.
И вижу,
сдавшись времени на милость,
Оставшийся с былым наедине:
Я не один в себе, как раньше мнилось,
Два человека ужились во мне.
В дали туманной годы как планеты,
И, верный их загадочной судьбе,
Раздвоенного времени приметы
Я чувствую мучительно в себе.
Когда и где попутать смог лукавый,
Но кажется,
два сердца мне даны:
Одно в груди постукивает с правой,
Горит другое с левой стороны.
А на плечах,
как будто две вершины,
Две головы ношу я с давних пор.
Воинственен их спор не без причины,
И не поможет здесь парламентер.
И сам с собой дерусь я на дуэли,
И прошлое темнеет, словно лес.
И не могу понять еще доселе,
Когда я Пушкин, а когда Дантес.
И слезы лью, и веселюсь, пируя,
Кричу, едва губами шевеля.
И сам себя победно в плен беру я,
Как белый император Шамиля.
У славы и бесславия во власти
Летели годы, месяцы и дни,
И, выкормив, держали на запястье
Голубку и стервятника они.
Ничто в минувшем не переиначить,
Я сам себе защитник и судья.
О ты, моя комедия, что плачешь?
Смеешься что, трагедия моя?
Шумел что ни день я, мальчишка крикливый...
Шумел что ни день я, мальчишка крикливый,
Мой свист отзывался в ушах у земли.
За это хлестал меня жгучей крапивой
Старик поседелый – Муртаазали.
Базар ли был полон торгового гула
Иль пьяного под руки двое вели,
К вершинам тропой уходил из аула
Старик поседелый – Муртаазали.
Воздав тишине благородную почесть,
На скальном холме от зари до зари
Сидел он в раздумий, сосредоточась,
Старик поседелый – Муртаазали.
Мир как стадион обезумел футбольный,
Вопит и свистит он, куда бы ни шли.
Восстань,
тишины опекун добровольный,
Старик поседелый – Муртаазали.
Чтоб время спокойствием жизнь окропило,
Ты утихомириться всем повели.
Пусть будет, как стыд, твоя жгуча крапива,
Старик поседелый –Муртаазали.
Слова наделяя судьбою насечки,
Поведай, как молча в туманной дали
Взирают вершины на шумные речки,
Старик поседелый – Муртаазали.
Шумел что ни день я, мальчишка крикливый,
Мой свист отзывался в ушах у земли.
За это хлестал меня жгучей крапивой
Старик поседелый – Муртаазали.
Базар ли был полон торгового гула
Иль пьяного под руки двое вели,
К вершинам тропой уходил из аула
Старик поседелый – Муртаазали.
Воздав тишине благородную почесть,
На скальном холме от зари до зари
Сидел он в раздумий, сосредоточась,
Старик поседелый – Муртаазали.
Мир как стадион обезумел футбольный,
Вопит и свистит он, куда бы ни шли.
Восстань,
тишины опекун добровольный,
Старик поседелый – Муртаазали.
Чтоб время спокойствием жизнь окропило,
Ты утихомириться всем повели.
Пусть будет, как стыд, твоя жгуча крапива,
Старик поседелый –Муртаазали.
Слова наделяя судьбою насечки,
Поведай, как молча в туманной дали
Взирают вершины на шумные речки,
Старик поседелый – Муртаазали.
Вьется снег, как белый прах...
Вьется снег, как белый прах,
Севером подуло.
Ты не мерзнешь ли в горах,
Ты не мерзнешь ли в горах,
Ласточка аула?
Туча снежная к плечу
Моему прильнула.
На коне я прискачу,
Снова в бурку залучу
Ласточку аула.
Пожелал я, парень гор,
Чтоб зима минула,
Холодам наперекор
Я везу в груди костер
Ласточке аула.
Станет дождиком метель,
Речкой, полной гула.
Жура-жура-журавель,
Зазвенит в горах апрель,
Ласточка аула.
Вьется снег, как белый прах,
Севером подуло.
Ты не мерзнешь ли в горах,
Ты не мерзнешь ли в горах,
Ласточка аула?
Туча снежная к плечу
Моему прильнула.
На коне я прискачу,
Снова в бурку залучу
Ласточку аула.
Пожелал я, парень гор,
Чтоб зима минула,
Холодам наперекор
Я везу в груди костер
Ласточке аула.
Станет дождиком метель,
Речкой, полной гула.
Жура-жура-журавель,
Зазвенит в горах апрель,
Ласточка аула.
Мама
По-русски «мама», по-грузински «нана»,
А по-аварски – ласково «баба».
Из тысяч слов земли и океана
У этого – особая судьба.
Став первым словом в год наш колыбельный,
Оно порой входило в дымный круг
И на устах солдата в час смертельный
Последним зовом становилось вдруг.
На это слово не ложатся тени,
И в тишине, наверно, потому
Слова другие, преклонив колени,
Желают исповедаться ему.
Родник, услугу оказав кувшину,
Лепечет это слово оттого,
Что вспоминает горную вершину –
Она прослыла матерью его.
И молния прорежет тучу снова,
И я услышу, за дождем следя,
Как, впитываясь в землю, это слово
Вызванивают капельки дождя.
Тайком вздохну, о чем-нибудь горюя,
И, скрыв слезу при ясном свете дня:
«Не беспокойся, – маме говорю я, –
Все хорошо, родная, у меня».
Тревожится за сына постоянно,
Святой любви великая раба.
По-русски «мама», по-грузински «нана»
И по-аварски – ласково «баба».
По-русски «мама», по-грузински «нана»,
А по-аварски – ласково «баба».
Из тысяч слов земли и океана
У этого – особая судьба.
Став первым словом в год наш колыбельный,
Оно порой входило в дымный круг
И на устах солдата в час смертельный
Последним зовом становилось вдруг.
На это слово не ложатся тени,
И в тишине, наверно, потому
Слова другие, преклонив колени,
Желают исповедаться ему.
Родник, услугу оказав кувшину,
Лепечет это слово оттого,
Что вспоминает горную вершину –
Она прослыла матерью его.
И молния прорежет тучу снова,
И я услышу, за дождем следя,
Как, впитываясь в землю, это слово
Вызванивают капельки дождя.
Тайком вздохну, о чем-нибудь горюя,
И, скрыв слезу при ясном свете дня:
«Не беспокойся, – маме говорю я, –
Все хорошо, родная, у меня».
Тревожится за сына постоянно,
Святой любви великая раба.
По-русски «мама», по-грузински «нана»
И по-аварски – ласково «баба».
Взглянув на круг гончарный в глине...
Взглянув на круг гончарный в глине,
Советчики, умерьте прыть.
Где ставить ручку на кувшине,
Не надо мастера учить.
Мы стихотворцы, не начхозы,
Нас ждет успех иль неуспех,
Но не планируются слезы,
И не планируется смех.
Оценку дню, что поднял веки,
Давать заране мудрено.
Что скажет мне о человеке
Рукопожатие одно?
Хоть жил с годами стремя в стремя,
Я, слыша их призывный рог,
Понять родившее нас время
Не до конца порою мог.
И рвал стихи свои, бывало,
И думал: «Честь не проворонь!»
И просветленье наступало
От строчек, брошенных в огонь.
Хотел бы жизни всей постичь я
Загадочный и грозный ход,
Души паденье и величье
И помыслов круговорот.
И тихое, как зов больного,
И громкое, как буйность рек,
Горами вверенное слово
Я на сердца веду в избег.
Что мне дороже в этом чине,
Чем знак доверья, может быть?
Где ставить ручку на кувшине,
Не надо мастера учить.
Взглянув на круг гончарный в глине,
Советчики, умерьте прыть.
Где ставить ручку на кувшине,
Не надо мастера учить.
Мы стихотворцы, не начхозы,
Нас ждет успех иль неуспех,
Но не планируются слезы,
И не планируется смех.
Оценку дню, что поднял веки,
Давать заране мудрено.
Что скажет мне о человеке
Рукопожатие одно?
Хоть жил с годами стремя в стремя,
Я, слыша их призывный рог,
Понять родившее нас время
Не до конца порою мог.
И рвал стихи свои, бывало,
И думал: «Честь не проворонь!»
И просветленье наступало
От строчек, брошенных в огонь.
Хотел бы жизни всей постичь я
Загадочный и грозный ход,
Души паденье и величье
И помыслов круговорот.
И тихое, как зов больного,
И громкое, как буйность рек,
Горами вверенное слово
Я на сердца веду в избег.
Что мне дороже в этом чине,
Чем знак доверья, может быть?
Где ставить ручку на кувшине,
Не надо мастера учить.
Поговорим о бурных днях Кавказа
Ираклию Андроникову
Вернее дружбы нету талисмана,
Ты слово дал приехать на Кавказ.
Я ждал тебя в долине Дагестана,
Когда еще апрель бурлил у нас.
Но вот письмо доставила мне почта,
И, прочитав твое посланье, я
Узнал разочарованно про то, что
В степные ты отправился края.
Всегда хранивший верность уговорам,
Я в мыслях стал поступок твой судить.
Вздыхая, думал с грустью и укором:
«Так Лермонтов не мог бы поступить!»
Снега венчают горную округу,
Полдневный жар переполняет грудь.
Я отпускаю грех тебе, как другу,
И говорю: «Приехать не забудь!»
На черных бурках мы под сенью вяза,
Присев бок о бок с облаком седым,
Поговорим о бурных днях Кавказа,
О подвигах с тобой поговорим.
Покой и мир царят в любом ауле,
И дух былой мятежности угас.
Отчаянных, как некогда, под пули
Поэтов не ссылают на Кавказ.
Исполненные чести секунданты
Остались жить в преданиях отцов.
И ныне оскорбленные таланты
Не требуют к барьеру подлецов.
И стихотворцы странствуют по свету,
Но чтобы взмыть над гребнями эпох,
Иному недостаточно поэту
И лермонтовских жизней четырех.
Пока петух не пропоет три раза,
Давай, Ираклий, рядом посидим,
Поговорим о бурных днях Кавказа,
О подвигах давай поговорим.
Не скажем о Ермолове ни слова
И предпочтем ему, как земляка,
Опального и вечно молодого
Поручика Тенгинского полка.
Ираклию Андроникову
Вернее дружбы нету талисмана,
Ты слово дал приехать на Кавказ.
Я ждал тебя в долине Дагестана,
Когда еще апрель бурлил у нас.
Но вот письмо доставила мне почта,
И, прочитав твое посланье, я
Узнал разочарованно про то, что
В степные ты отправился края.
Всегда хранивший верность уговорам,
Я в мыслях стал поступок твой судить.
Вздыхая, думал с грустью и укором:
«Так Лермонтов не мог бы поступить!»
Снега венчают горную округу,
Полдневный жар переполняет грудь.
Я отпускаю грех тебе, как другу,
И говорю: «Приехать не забудь!»
На черных бурках мы под сенью вяза,
Присев бок о бок с облаком седым,
Поговорим о бурных днях Кавказа,
О подвигах с тобой поговорим.
Покой и мир царят в любом ауле,
И дух былой мятежности угас.
Отчаянных, как некогда, под пули
Поэтов не ссылают на Кавказ.
Исполненные чести секунданты
Остались жить в преданиях отцов.
И ныне оскорбленные таланты
Не требуют к барьеру подлецов.
И стихотворцы странствуют по свету,
Но чтобы взмыть над гребнями эпох,
Иному недостаточно поэту
И лермонтовских жизней четырех.
Пока петух не пропоет три раза,
Давай, Ираклий, рядом посидим,
Поговорим о бурных днях Кавказа,
О подвигах давай поговорим.
Не скажем о Ермолове ни слова
И предпочтем ему, как земляка,
Опального и вечно молодого
Поручика Тенгинского полка.
Сеньорина
Тебя я заклинаю, сеньорина,
Еще не поздно.
На берег сойди!
Надежда, как свеча из стеарина,
Горит и тает у меня в груди.
Вели глушить моторы капитану,
Остаться пожелай на берегу.
И я, седой,
мгновенно юнгой стану,
Тебе сойти по трапу помогу.
Куда бежишь?
На зов какого долга?
Попутчикам недобрым крикни: «Прочь!»
Предавшим Революцию
не долго
И женщину предать в любую ночь.
Какая мысль больная осенила
Тебя бежать?
Отбрось ее, молю!
Ты слышишь, дорогая сеньорина,
Как шепчет Куба:
«Я тебя люблю!»?
Молю, взгляни еще раз на Гавану,
Пролей слезу. Вот холм Хосе Марти.
Одумайся – и молодым я стану,
Тебе по трапу помогу сойти.
Я видел много женщин, убежавших
В чужие земли из краев родных,
Я видел их, за деньги ублажавших
Кого угодно в сумерках ночных.
И даже перед пламенем камина
Они весь век согреться не могли.
Судьбы не ищут,
слышишь, сеньорина,
От ненаглядной родины вдали.
Холодной, словно дуло карабина,
Сразит чужбина и тебя тоской.
Не уплывай, останься, сеньорина,
Печального солдата успокой.
Он в бой ходил, он знает силу слова
И рисковать умеет головой.
Нигде не встретишь рыцаря такого
В зеленой гимнастерке полевой.
Пускай морская пенится пучина,
Кидайся в воду!
К берегу плыви!
Иду тебе на помощь, сеньорина,
Посол надежды, веры и любви.
Тебя я заклинаю, сеньорина,
Еще не поздно.
На берег сойди!
Надежда, как свеча из стеарина,
Горит и тает у меня в груди.
Вели глушить моторы капитану,
Остаться пожелай на берегу.
И я, седой,
мгновенно юнгой стану,
Тебе сойти по трапу помогу.
Куда бежишь?
На зов какого долга?
Попутчикам недобрым крикни: «Прочь!»
Предавшим Революцию
не долго
И женщину предать в любую ночь.
Какая мысль больная осенила
Тебя бежать?
Отбрось ее, молю!
Ты слышишь, дорогая сеньорина,
Как шепчет Куба:
«Я тебя люблю!»?
Молю, взгляни еще раз на Гавану,
Пролей слезу. Вот холм Хосе Марти.
Одумайся – и молодым я стану,
Тебе по трапу помогу сойти.
Я видел много женщин, убежавших
В чужие земли из краев родных,
Я видел их, за деньги ублажавших
Кого угодно в сумерках ночных.
И даже перед пламенем камина
Они весь век согреться не могли.
Судьбы не ищут,
слышишь, сеньорина,
От ненаглядной родины вдали.
Холодной, словно дуло карабина,
Сразит чужбина и тебя тоской.
Не уплывай, останься, сеньорина,
Печального солдата успокой.
Он в бой ходил, он знает силу слова
И рисковать умеет головой.
Нигде не встретишь рыцаря такого
В зеленой гимнастерке полевой.
Пускай морская пенится пучина,
Кидайся в воду!
К берегу плыви!
Иду тебе на помощь, сеньорина,
Посол надежды, веры и любви.
Жизнь
Относился к себе я беспечно всегда,
С докторами встречался не часто,
Пил из рога вино, как велит тамада,
И не пил никакого лекарства.
Но однажды попал в государство Мали.
И здоров был и крепок, однако
Я не умер едва в африканской дали,
В главном городе, в знойном Бамако.
Там, как раненый всадник, упавший с седла,
Я схватился за грудь поневоле:
Словно сердце мое прострелила стрела
И слова задохнулись от боли.
И холодные капли катились со лба.
Горы вспомнились, вспомнилась мама.
И сколь жизнь ни была в моем теле слаба,
Я на локоть оперся упрямо.
До того, как в глазах моих дню потемнеть,
Смог друзьям прошептать лишь одно я:
«Дайте на небо Африки мне посмотреть,
Ничего, что оно не родное!
Дайте глянуть на все, что я вижу окрест,
Пусть деревья вздохнут надо мною.
Ах, как птицы поют! Не из этих ли мест
К нам они прилетают весною?»
И в глазах моих свет опрокинулся вдруг,
И деревья, и небо Бамако.
И, подхваченный дюжиной преданных рук,
Я затих, побелев как бумага.
И казалось, погиб я в далекой стране,
Но, когда уже сердце не билось,
Не безгрешная жизнь словно чудом ко мне
У последней черты возвратилась.
Распахнулась завеса безвременной тьмы,
Под бровями оттаяли веки,
И по жилам моим с отступленьем зимы
Снова двинулись красные реки.
И, как будто бы лица моих земляков
Или Африки черной ладони,
Предо мной засветлела гряда облаков
На высоком чужом небосклоне.
Я людей увидал. Были рады они
Убедиться в свершившемся чуде.
И такими красивыми в прошлые дни
Никогда не казались мне люди.
Долетели до слуха земные слова.
Речь друзей моих, белых и черных,
Я, как нежную музыку, слушал сперва,
Словно мир весь играл на валторнах.
Льется свет на меня с человеческих лиц,
И себя я от жизни не прячу
И в горах, услыхав возвратившихся птиц,
Неспроста улыбаюсь и плачу.
Относился к себе я беспечно всегда,
С докторами встречался не часто,
Пил из рога вино, как велит тамада,
И не пил никакого лекарства.
Но однажды попал в государство Мали.
И здоров был и крепок, однако
Я не умер едва в африканской дали,
В главном городе, в знойном Бамако.
Там, как раненый всадник, упавший с седла,
Я схватился за грудь поневоле:
Словно сердце мое прострелила стрела
И слова задохнулись от боли.
И холодные капли катились со лба.
Горы вспомнились, вспомнилась мама.
И сколь жизнь ни была в моем теле слаба,
Я на локоть оперся упрямо.
До того, как в глазах моих дню потемнеть,
Смог друзьям прошептать лишь одно я:
«Дайте на небо Африки мне посмотреть,
Ничего, что оно не родное!
Дайте глянуть на все, что я вижу окрест,
Пусть деревья вздохнут надо мною.
Ах, как птицы поют! Не из этих ли мест
К нам они прилетают весною?»
И в глазах моих свет опрокинулся вдруг,
И деревья, и небо Бамако.
И, подхваченный дюжиной преданных рук,
Я затих, побелев как бумага.
И казалось, погиб я в далекой стране,
Но, когда уже сердце не билось,
Не безгрешная жизнь словно чудом ко мне
У последней черты возвратилась.
Распахнулась завеса безвременной тьмы,
Под бровями оттаяли веки,
И по жилам моим с отступленьем зимы
Снова двинулись красные реки.
И, как будто бы лица моих земляков
Или Африки черной ладони,
Предо мной засветлела гряда облаков
На высоком чужом небосклоне.
Я людей увидал. Были рады они
Убедиться в свершившемся чуде.
И такими красивыми в прошлые дни
Никогда не казались мне люди.
Долетели до слуха земные слова.
Речь друзей моих, белых и черных,
Я, как нежную музыку, слушал сперва,
Словно мир весь играл на валторнах.
Льется свет на меня с человеческих лиц,
И себя я от жизни не прячу
И в горах, услыхав возвратившихся птиц,
Неспроста улыбаюсь и плачу.
Житель гор возьмет с собой в дорогу...
Житель гор возьмет с собой в дорогу
И вино и хлеб наверняка.
Друг навстречу – есть чем,
слава богу,
Угостить на бурке кунака.
Гость для горца – как звезда в зените,
Только в горы,
помните о том,
Хлеба и вина вы не берите, –
Встретят вас и хлебом и вином.
Горец за вершины перевала
Без оружья не пускался в путь.
И не раз опасность обнажала
Лезвие, нацеленное в грудь.
Вы с собой оружья не берите, –
На дорогах до седых высот
Каждый горец – ваш телохранитель:
Сам погибнет, но друзей спасет.
Если нет попутчика, то с песней
Веселей в пути, чем одному,
Я и сам нередко по тропе с ней
Пробираюсь сквозь ночную тьму.
Горы возвышаются, как хоры,
Затмевая песнями луну.
Но когда поедете к нам в горы,
Песню взять должны вы хоть одну.
Житель гор возьмет с собой в дорогу
И вино и хлеб наверняка.
Друг навстречу – есть чем,
слава богу,
Угостить на бурке кунака.
Гость для горца – как звезда в зените,
Только в горы,
помните о том,
Хлеба и вина вы не берите, –
Встретят вас и хлебом и вином.
Горец за вершины перевала
Без оружья не пускался в путь.
И не раз опасность обнажала
Лезвие, нацеленное в грудь.
Вы с собой оружья не берите, –
На дорогах до седых высот
Каждый горец – ваш телохранитель:
Сам погибнет, но друзей спасет.
Если нет попутчика, то с песней
Веселей в пути, чем одному,
Я и сам нередко по тропе с ней
Пробираюсь сквозь ночную тьму.
Горы возвышаются, как хоры,
Затмевая песнями луну.
Но когда поедете к нам в горы,
Песню взять должны вы хоть одну.
Льется свет на меня с человеческих лиц,
И себя я от жизни не прячу
И в горах, услыхав возвратившихся птиц,
Неспроста улыбаюсь и плачу.
И себя я от жизни не прячу
И в горах, услыхав возвратившихся птиц,
Неспроста улыбаюсь и плачу.
Не к лицу мне ловчего повадки
Женщина, родившая мужчину,
Разве ты поверить бы смогла,
Что во тьме ночной кому-то в спину
Выстрелил твой сын из-за угла?
Будь па сердце радость или горесть,
Не поверишь ты наверняка,
Что столкнул в глухую пропасть горец
Спящего на скалах кунака.
И в горах со времени седого
Нрав мужской накладывал запрет
Говорить порочащее слово
Гостю ускакавшему вослед.
Потому открыто, по старинке,
Где лежит на кручах окоем,
Горец с горцем в честном поединке
Как бугай сходился с бугаем.
Что ж меня не воля злого рока,
А рука, возникшая из мглы,
В пасть громокипящего потока
Спящего толкает со скалы?
И в родном краю, где о вершину
Громко точит молнии гроза,
Из укрытья мне стреляет в спину
Недруг, улыбавшийся в глаза?
Посреди улыбок и ухмылок
Черные завистники не раз
Выстрелами меткими в затылок
Без опаски убивали нас.
Знаю, что недоброе заглазно
Скажут обо мне еще и впредь.
Близ приманки, что полна соблазна,
Пусть охотник расставляет сеть.
Не к лицу мне ловчего повадки,
Я готов с противником вдвоем
С глазу на глаз лишь в открытой схватке
Как бугай сходиться с бугаем.
Женщина, родившая мужчину,
Разве ты поверить бы смогла,
Что во тьме ночной кому-то в спину
Выстрелил твой сын из-за угла?
Будь па сердце радость или горесть,
Не поверишь ты наверняка,
Что столкнул в глухую пропасть горец
Спящего на скалах кунака.
И в горах со времени седого
Нрав мужской накладывал запрет
Говорить порочащее слово
Гостю ускакавшему вослед.
Потому открыто, по старинке,
Где лежит на кручах окоем,
Горец с горцем в честном поединке
Как бугай сходился с бугаем.
Что ж меня не воля злого рока,
А рука, возникшая из мглы,
В пасть громокипящего потока
Спящего толкает со скалы?
И в родном краю, где о вершину
Громко точит молнии гроза,
Из укрытья мне стреляет в спину
Недруг, улыбавшийся в глаза?
Посреди улыбок и ухмылок
Черные завистники не раз
Выстрелами меткими в затылок
Без опаски убивали нас.
Знаю, что недоброе заглазно
Скажут обо мне еще и впредь.
Близ приманки, что полна соблазна,
Пусть охотник расставляет сеть.
Не к лицу мне ловчего повадки,
Я готов с противником вдвоем
С глазу на глаз лишь в открытой схватке
Как бугай сходиться с бугаем.
Я трижды плакал в мире этом...
Я трижды плакал в мире этом,
Ио не клонился долу взор.
Стояли, залитые светом,
В моих слезах вершины гор.
И, верный дедовским заветам,
Мне у седых аульских скал
Сказал отец, что был поэтом:
«Ты чувство доброе познал!»
Был трижды ранен я, и ныла
В тех ранах боль родной земли.
И цвета ягоды кизила
Из сердца капельки текли.
Но доносилось сквозь туманы:
«Знай: победитель испокон
Быстрей залечивает раны,
Чем тот,
кто в схватке побежден».
Из песен, созданных за годы,
Есть три заветных у меня
О родине,
без чьей свободы
Себя не мыслил я ни дня.
Ее лишь звездам и рассветам
Молюсь с надеждой вновь и вновь.
И слышу голос я при этом:
«Святую ты постиг любовь».
Я, в кузне века закаленный,
Колени трижды преклонял.
Солдат коленопреклоненный,
Я стяг багряный целовал.
И прошлого метались тени,
И был решетчат их излом,
Но слышал я:
«Склоняй колени,
Мой сын, и впредь не перед злом!»
Я трижды плакал в мире этом,
Ио не клонился долу взор.
Стояли, залитые светом,
В моих слезах вершины гор.
И, верный дедовским заветам,
Мне у седых аульских скал
Сказал отец, что был поэтом:
«Ты чувство доброе познал!»
Был трижды ранен я, и ныла
В тех ранах боль родной земли.
И цвета ягоды кизила
Из сердца капельки текли.
Но доносилось сквозь туманы:
«Знай: победитель испокон
Быстрей залечивает раны,
Чем тот,
кто в схватке побежден».
Из песен, созданных за годы,
Есть три заветных у меня
О родине,
без чьей свободы
Себя не мыслил я ни дня.
Ее лишь звездам и рассветам
Молюсь с надеждой вновь и вновь.
И слышу голос я при этом:
«Святую ты постиг любовь».
Я, в кузне века закаленный,
Колени трижды преклонял.
Солдат коленопреклоненный,
Я стяг багряный целовал.
И прошлого метались тени,
И был решетчат их излом,
Но слышал я:
«Склоняй колени,
Мой сын, и впредь не перед злом!»
Рождение песни
Мураду Кажлаеву
Строка без музыки – бескрыла,
Ты удружи мне, удружи
И все, что в слове сердцу мило,
На музыку переложи.
Сложи напев, что лих и буен,
Чья власть сердечная нежна.
Пусть горы бьют в луну, как в бубен,
И бубен блещет, как луна.
Слова и звездны и туманны,
Ты честь в горах им окажи:
На африканские тамтамы
И на свирели положи.
Ты сделай струнами потоки
И сочини такой напев,
Чтобы к щекам прильнули щеки,
Сливались губы, захмелев.
И сладко головы кружились
У обольстительных тихонь.
И, взбив папаху, акушинец
Кидался в танец, как в огонь.
Не забывая слез соленых,
Ты радость людям приноси
И на полях любви
сраженных
Благослови и воскреси.
Когда вокруг богуют звуки
И познается вышина,
Ко мне протягивает руки
Земная женщина одна.
Возьми слова мои,
и если
В них землю с небом породнишь,
Они, пожалуй, станут песней,
Взлетев как птицы с горских крыш.
Мураду Кажлаеву
Строка без музыки – бескрыла,
Ты удружи мне, удружи
И все, что в слове сердцу мило,
На музыку переложи.
Сложи напев, что лих и буен,
Чья власть сердечная нежна.
Пусть горы бьют в луну, как в бубен,
И бубен блещет, как луна.
Слова и звездны и туманны,
Ты честь в горах им окажи:
На африканские тамтамы
И на свирели положи.
Ты сделай струнами потоки
И сочини такой напев,
Чтобы к щекам прильнули щеки,
Сливались губы, захмелев.
И сладко головы кружились
У обольстительных тихонь.
И, взбив папаху, акушинец
Кидался в танец, как в огонь.
Не забывая слез соленых,
Ты радость людям приноси
И на полях любви
сраженных
Благослови и воскреси.
Когда вокруг богуют звуки
И познается вышина,
Ко мне протягивает руки
Земная женщина одна.
Возьми слова мои,
и если
В них землю с небом породнишь,
Они, пожалуй, станут песней,
Взлетев как птицы с горских крыш.
Граница
Когда я был проездом в Лиссабоне,
Таможенники,
вежливость храня,
За словом недозволенным в погоне,
Тетрадь стихов изъяли у меня.
И, может быть, поныне изучают
Там строки на аварском языке,
Которые опасность излучают
От горного аула вдалеке.
Да помоги им бог!
А я гордиться
Таким вниманьем пристальным могу.
Мне издавна незримая граница
На каждом открывается шагу.
Не вдоль отдельной речки иль поляны
Идет ее суровая черта,
Где смотрят в души, а не в чемоданы,
Читают мысли, а не паспорта.
Она врасплох двуликого застала,
Два мненья разделила за столом.
И неподкупной совести застава
Стоит на ней между добром и злом.
К подножью гор упали две шинели,
Мне Лермонтов с Мартыновым видны,
Барьерною границею дуэли
Пред вечностью они разделены.
И чаянья бездарности сгорели,
Рубеж – как неприступный перевал.
Вот чокается с Моцартом Сальери,
Но не звенит завистника бокал.
Людского духа беспокойны царства,
И сколько их к согласью ни зови,
Живучий Яго – подданный коварства –
Не превратится в рыцаря любви.
Но, правда, в жизни случаи бывали:
Все за собой сжигая корабли,
Те к радости моей, а те к печали
Границу роковую перешли.
Не склонна совесть ни к каким уступкам,
И, находясь в дозорной вышине,
Она определяет по поступкам,
Кто на какой сегодня стороне.
Когда я был проездом в Лиссабоне,
Таможенники,
вежливость храня,
За словом недозволенным в погоне,
Тетрадь стихов изъяли у меня.
И, может быть, поныне изучают
Там строки на аварском языке,
Которые опасность излучают
От горного аула вдалеке.
Да помоги им бог!
А я гордиться
Таким вниманьем пристальным могу.
Мне издавна незримая граница
На каждом открывается шагу.
Не вдоль отдельной речки иль поляны
Идет ее суровая черта,
Где смотрят в души, а не в чемоданы,
Читают мысли, а не паспорта.
Она врасплох двуликого застала,
Два мненья разделила за столом.
И неподкупной совести застава
Стоит на ней между добром и злом.
К подножью гор упали две шинели,
Мне Лермонтов с Мартыновым видны,
Барьерною границею дуэли
Пред вечностью они разделены.
И чаянья бездарности сгорели,
Рубеж – как неприступный перевал.
Вот чокается с Моцартом Сальери,
Но не звенит завистника бокал.
Людского духа беспокойны царства,
И сколько их к согласью ни зови,
Живучий Яго – подданный коварства –
Не превратится в рыцаря любви.
Но, правда, в жизни случаи бывали:
Все за собой сжигая корабли,
Те к радости моей, а те к печали
Границу роковую перешли.
Не склонна совесть ни к каким уступкам,
И, находясь в дозорной вышине,
Она определяет по поступкам,
Кто на какой сегодня стороне.
Покарай меня, край мой нагорный...
Покарай меня, край мой нагорный,
За измену твоей высоте.
Верил я в чей-то вымысел вздорный
И разменивал жизнь в суете.
И, кидаясь в никчемные споры,
У отцов словоблудья в чести,
Забывал, что походят на горы
Те, кого и годам не снести.
Лег на совести отблеск заката
За поступок, что был не к лицу:
Разыграв из себя дипломата,
Подал руку я раз подлецу.
Словно с горским обычаем в ссоре,
В дни иные, ленивцу под стать,
Умудрялся я ранние зори
В сновидениях поздних встречать.
Острожным бывал и несмелым.
Обрывал не по воле строку.
И пришлось на меня виноделам
Поработать на этом веку.
Как в преддверии праздника снова
Мальчик сладостной ждет пахлавы,
Так, сластена печатного слова,
Вожделенно я ждал похвалы.
В окружении пеших и конных
Был на розовый цвет нескупой,
А униженных и оскорбленных
Я не видел, как будто слепой.
Покарай меня, край мой нагорный,
Будь со мной за грехи мои строг
И на старенькой лодке моторной
На безлюдный свези островок.
Так ссылала седая Эллада
За грехи стихотворцев своих.
Отлучи от привычного склада
Повседневных сумятиц земных.
Ни хулы пусть не будет, ни лести,
Ты от жизни моей отруби
Кабинет с телефонами вместе
И машину с шофером Наби.
Отбери мне ненужные вещи:
Микрофон, что глядит прямо в рот,
Репродуктор, что голосом вещим
Круглосуточно что-то речет.
Повели, мой владыка нагорный,
Ты к природе приблизиться мне,
С нею, дикой и нерукотворной,
Ты оставь меня наедине.
Пусть вокруг темноликие кряжи,
Слыша волн набегающих гул,
Как бессменные, вечные стражи,
Неподкупный несут караул.
Дай мне только перо и бумагу
И над словом пророческим власть.
Я на бурку косматую лягу,
И вздохну, и задумаюсь всласть.
Поступи, как седая Эллада,
И луну засвети в вышине,
Чтоб она, как ночная лампада,
Свет волшебный дарила бы мне.
И позволь, повелитель нагорный,
Чтоб из множества женщин – одна,
Вновь загадочной став и покорной,
Приплывала ко мне дотемна.
И, отмеченный милостью божью,
Как штрафник, обеленный в бою,
Возвратясь,
к твоему я подножью
Положу «Одиссею» свою.
Покарай меня, край мой нагорный,
За измену твоей высоте.
Верил я в чей-то вымысел вздорный
И разменивал жизнь в суете.
И, кидаясь в никчемные споры,
У отцов словоблудья в чести,
Забывал, что походят на горы
Те, кого и годам не снести.
Лег на совести отблеск заката
За поступок, что был не к лицу:
Разыграв из себя дипломата,
Подал руку я раз подлецу.
Словно с горским обычаем в ссоре,
В дни иные, ленивцу под стать,
Умудрялся я ранние зори
В сновидениях поздних встречать.
Острожным бывал и несмелым.
Обрывал не по воле строку.
И пришлось на меня виноделам
Поработать на этом веку.
Как в преддверии праздника снова
Мальчик сладостной ждет пахлавы,
Так, сластена печатного слова,
Вожделенно я ждал похвалы.
В окружении пеших и конных
Был на розовый цвет нескупой,
А униженных и оскорбленных
Я не видел, как будто слепой.
Покарай меня, край мой нагорный,
Будь со мной за грехи мои строг
И на старенькой лодке моторной
На безлюдный свези островок.
Так ссылала седая Эллада
За грехи стихотворцев своих.
Отлучи от привычного склада
Повседневных сумятиц земных.
Ни хулы пусть не будет, ни лести,
Ты от жизни моей отруби
Кабинет с телефонами вместе
И машину с шофером Наби.
Отбери мне ненужные вещи:
Микрофон, что глядит прямо в рот,
Репродуктор, что голосом вещим
Круглосуточно что-то речет.
Повели, мой владыка нагорный,
Ты к природе приблизиться мне,
С нею, дикой и нерукотворной,
Ты оставь меня наедине.
Пусть вокруг темноликие кряжи,
Слыша волн набегающих гул,
Как бессменные, вечные стражи,
Неподкупный несут караул.
Дай мне только перо и бумагу
И над словом пророческим власть.
Я на бурку косматую лягу,
И вздохну, и задумаюсь всласть.
Поступи, как седая Эллада,
И луну засвети в вышине,
Чтоб она, как ночная лампада,
Свет волшебный дарила бы мне.
И позволь, повелитель нагорный,
Чтоб из множества женщин – одна,
Вновь загадочной став и покорной,
Приплывала ко мне дотемна.
И, отмеченный милостью божью,
Как штрафник, обеленный в бою,
Возвратясь,
к твоему я подножью
Положу «Одиссею» свою.
О ворах
Что плохо кладут,
Воры крадут.
Ох, и охочи
На это они
В черные ночи
И в белые дни.
Помалу, помногу
Воруют вокруг:
То заднюю ногу,
То целый курдюк.
Один украдет –
На себе отнесет.
Другой украдет –
На арбе отвезет.
Своруют одни –
И не воры они.
Другим никогда
Не избегнуть суда.
Сорока-воровка
Кашу варила,
И, действуя ловко,
Она говорила:
«Десять старательных
Было молодчиков.
Два указательных –
В роли наводчиков.
Средние – крали,
Большие – съедали,
В свидетели
Два безымянных попали.
Но дали не этому
И не тому.
Оба мизинчика
Сели в тюрьму».
Что плохо кладут,
Воры крадут.
Воруют на пару
И в одиночку.
То стащат отару,
То чью-нибудь строчку.
Воруя, наелись
И напились.
Воруя, оделись
И вознеслись.
Воруя, наглели,
Воруя, божились,
В чужие постели
С чужими ложились.
Сорока-воровка
Кашу варила,
И, действуя ловко,
Она говорила:
«Десять старательных
Было молодчиков.
Два указательных –
В роли наводчиков.
Средние – крали,
Большие – съедали,
В свидетели
Два безымянных попали.
Но дали не этому
И не тому.
Оба мизинчика
Сели в тюрьму».
Гора на горе,
Вор на воре.
Лисица-плутовка
У многих в чести.
Главное – ловко
Следы замести.
Есть разные воры
В любой из сторон.
Иным, что матёры,
Закон – не закон.
Угонит овец,
Говорят: «Удалец!»
А спер петуха –
Не прощают греха.
Сорока-воровка
Кашу варила,
И, действуя ловко,
Она говорила:
«Десять старательных
Было молодчиков.
Два указательных –
В роли наводчиков.
Средние – крали,
Большие – съедали,
В свидетели
Два безымянных попали.
Но дали не этому
И не тому.
Оба мизинчика
Сели в тюрьму».
Что плохо кладут,
Воры крадут.
Ох, и охочи
На это они
В черные ночи
И в белые дни.
Помалу, помногу
Воруют вокруг:
То заднюю ногу,
То целый курдюк.
Один украдет –
На себе отнесет.
Другой украдет –
На арбе отвезет.
Своруют одни –
И не воры они.
Другим никогда
Не избегнуть суда.
Сорока-воровка
Кашу варила,
И, действуя ловко,
Она говорила:
«Десять старательных
Было молодчиков.
Два указательных –
В роли наводчиков.
Средние – крали,
Большие – съедали,
В свидетели
Два безымянных попали.
Но дали не этому
И не тому.
Оба мизинчика
Сели в тюрьму».
Что плохо кладут,
Воры крадут.
Воруют на пару
И в одиночку.
То стащат отару,
То чью-нибудь строчку.
Воруя, наелись
И напились.
Воруя, оделись
И вознеслись.
Воруя, наглели,
Воруя, божились,
В чужие постели
С чужими ложились.
Сорока-воровка
Кашу варила,
И, действуя ловко,
Она говорила:
«Десять старательных
Было молодчиков.
Два указательных –
В роли наводчиков.
Средние – крали,
Большие – съедали,
В свидетели
Два безымянных попали.
Но дали не этому
И не тому.
Оба мизинчика
Сели в тюрьму».
Гора на горе,
Вор на воре.
Лисица-плутовка
У многих в чести.
Главное – ловко
Следы замести.
Есть разные воры
В любой из сторон.
Иным, что матёры,
Закон – не закон.
Угонит овец,
Говорят: «Удалец!»
А спер петуха –
Не прощают греха.
Сорока-воровка
Кашу варила,
И, действуя ловко,
Она говорила:
«Десять старательных
Было молодчиков.
Два указательных –
В роли наводчиков.
Средние – крали,
Большие – съедали,
В свидетели
Два безымянных попали.
Но дали не этому
И не тому.
Оба мизинчика
Сели в тюрьму».
Прощай, зима!
Весна идет, как поезд с юга,
По рельсам солнечных лучей.
И ты, низвергнутая вьюга,
Беги, сокройся от очей.
С небес все ярче брызжет охра,
Долина облако спила.
Прощай, зима! Беги!
Намокла
Твоя белесая спина.
Ее клюют капели звонко,
Ты стерегись глядеть назад:
С венком на голове девчонка
Способна ослепить твой взгляд.
Беги, седая, без оглядки,
Ты отгуляла на земле.
Пусть белогрудые касатки
На черной лепятся скале.
Вдоль городов, аулов, станций
Беги, лишенная кольчуг.
Льды тают, словно лики старцев,
Когда неизлечим недуг.
Прощай! Не все твои седины
Окрест достанутся ручью,
Венчая горные вершины
И буйно – голову мою!
Весна идет, как поезд с юга,
По рельсам солнечных лучей.
И ты, низвергнутая вьюга,
Беги, сокройся от очей.
С небес все ярче брызжет охра,
Долина облако спила.
Прощай, зима! Беги!
Намокла
Твоя белесая спина.
Ее клюют капели звонко,
Ты стерегись глядеть назад:
С венком на голове девчонка
Способна ослепить твой взгляд.
Беги, седая, без оглядки,
Ты отгуляла на земле.
Пусть белогрудые касатки
На черной лепятся скале.
Вдоль городов, аулов, станций
Беги, лишенная кольчуг.
Льды тают, словно лики старцев,
Когда неизлечим недуг.
Прощай! Не все твои седины
Окрест достанутся ручью,
Венчая горные вершины
И буйно – голову мою!
Хмурым летом
Абдурахман, ты помнишь лето,
Когда сквозь ветреный простор
Кидались тучи всего света
На кручи соплеменных гор?
И дождь поля смывал на склонах,
И превращались во врагов
Потоки речек разъяренных
И вышедших из берегов.
Вода по каменным уступам
Стекала, яростно бурля.
Вокруг изодранным тулупом
Лежала взбухшая земля.
На маленьком аэроплане
Летели мы через грозу.
Подобно было рваной ране
Ущелье каждое внизу.
Рванувшие рукой печали
Железной выдержки кольцо,
Как безъязыкие, молчали
Мы, глядя бедствию в лицо.
Обвал гремел на небосклоне,
Огонь метала высота.
И на базальтовой ладони
Мы приземлились в Тлярота.
Тут вышел к нам старик навстречу,
Как из разверзнувшихся скал.
И дождь, упав ему на плечи,
К ногам в бессилии стекал.
Из-под бровей седых и хмурых
Проклевывалась ясность дней,
И двух оседланных каурых
Он под уздцы держал коней.
И молвил, нас не утешая,
Он, глянув молнии вослед:
«Лиха напасть. Беда большая,
Но все ж не худшая из бед».
Озерами казались лужи,
И я решил его спросить:
«А что для горцев может хуже
Подобной непогоди быть?»
«Ее злодейство поправимо.
И хуже для людей, когда
Земляк их пролетает мимо,
Не вспомнив отчего гнезда».
Кинжальный всполох отразился
На стали кованых стремян.
В седло вскочил и поклонился
Ты старику, Абдурахман.
Под небом черным и лиловым
Я видел в сумраке дождей,
Как можешь ты душевным словом
Мобилизовывать людей.
Хоть дьявольски они устали,
Порыв их стал неодолим.
Родимых гор ты был устами,
А горы – мужеством твоим.
Гремели громы, как пророки,
И сам с людьми кидался ты
В осатанелые потоки,
Чтоб на себе держать мосты.
Успех не заключался в чуде.
Ты знал, не пряча слез в очах,
Что лишь не каменные люди
Его выносят на плечах.
И родины шептал я имя
И обращался к ней с мольбой:
«Доверь устами быть твоими,
Ты, ставшая моей судьбой».
Абдурахман, ты помнишь лето,
Когда сквозь ветреный простор
Кидались тучи всего света
На кручи соплеменных гор?
И дождь поля смывал на склонах,
И превращались во врагов
Потоки речек разъяренных
И вышедших из берегов.
Вода по каменным уступам
Стекала, яростно бурля.
Вокруг изодранным тулупом
Лежала взбухшая земля.
На маленьком аэроплане
Летели мы через грозу.
Подобно было рваной ране
Ущелье каждое внизу.
Рванувшие рукой печали
Железной выдержки кольцо,
Как безъязыкие, молчали
Мы, глядя бедствию в лицо.
Обвал гремел на небосклоне,
Огонь метала высота.
И на базальтовой ладони
Мы приземлились в Тлярота.
Тут вышел к нам старик навстречу,
Как из разверзнувшихся скал.
И дождь, упав ему на плечи,
К ногам в бессилии стекал.
Из-под бровей седых и хмурых
Проклевывалась ясность дней,
И двух оседланных каурых
Он под уздцы держал коней.
И молвил, нас не утешая,
Он, глянув молнии вослед:
«Лиха напасть. Беда большая,
Но все ж не худшая из бед».
Озерами казались лужи,
И я решил его спросить:
«А что для горцев может хуже
Подобной непогоди быть?»
«Ее злодейство поправимо.
И хуже для людей, когда
Земляк их пролетает мимо,
Не вспомнив отчего гнезда».
Кинжальный всполох отразился
На стали кованых стремян.
В седло вскочил и поклонился
Ты старику, Абдурахман.
Под небом черным и лиловым
Я видел в сумраке дождей,
Как можешь ты душевным словом
Мобилизовывать людей.
Хоть дьявольски они устали,
Порыв их стал неодолим.
Родимых гор ты был устами,
А горы – мужеством твоим.
Гремели громы, как пророки,
И сам с людьми кидался ты
В осатанелые потоки,
Чтоб на себе держать мосты.
Успех не заключался в чуде.
Ты знал, не пряча слез в очах,
Что лишь не каменные люди
Его выносят на плечах.
И родины шептал я имя
И обращался к ней с мольбой:
«Доверь устами быть твоими,
Ты, ставшая моей судьбой».
За вас!
В застольной компании людной,
Отбросив торжественный слог,
Вздымаю, как будто бы лунный,
Я бычий вместительный рог.
В нем дар виноградников древний,
Веселья шипучего дар.
В рубиновых каплях полдневный
Долин откликается жар.
И, чествуя солнце в зените
И славу воздав погребам,
Вы к огненным каплям прильните,
Как будто бы к женским губам.
А может, к столу не из бочек
Нацежено это вино,
А было добыто из строчек,
Меня опьянивших давно.
Поймите, коль пьете не разом,
А с чувством, как я его пил,
Что холоден старцев в нем разум
И пламенен юности пыл.
Сошлись, соблюдая обычай.
И наши гремят имена,
И рог возвышается бычий,
Что красного полон вина.
И годы встают за плечами,
И жизни я дань отдаю.
Поднять этот рог завещали
Солдаты, что пали в бою.
К моей он прижался ладони,
Как месяца лунного брат,
А рядом крылатые кони
По горным вершинам летят.
Пусть литься в глаза мои будет
Тепло человеческих глаз.
Вы так удивительны, люди,
Я пью, дорогие, за вас!
В застольной компании людной,
Отбросив торжественный слог,
Вздымаю, как будто бы лунный,
Я бычий вместительный рог.
В нем дар виноградников древний,
Веселья шипучего дар.
В рубиновых каплях полдневный
Долин откликается жар.
И, чествуя солнце в зените
И славу воздав погребам,
Вы к огненным каплям прильните,
Как будто бы к женским губам.
А может, к столу не из бочек
Нацежено это вино,
А было добыто из строчек,
Меня опьянивших давно.
Поймите, коль пьете не разом,
А с чувством, как я его пил,
Что холоден старцев в нем разум
И пламенен юности пыл.
Сошлись, соблюдая обычай.
И наши гремят имена,
И рог возвышается бычий,
Что красного полон вина.
И годы встают за плечами,
И жизни я дань отдаю.
Поднять этот рог завещали
Солдаты, что пали в бою.
К моей он прижался ладони,
Как месяца лунного брат,
А рядом крылатые кони
По горным вершинам летят.
Пусть литься в глаза мои будет
Тепло человеческих глаз.
Вы так удивительны, люди,
Я пью, дорогие, за вас!
Памяти народного поэта Басира Инусилова
Мой друг Басир, что ты наделал, милый?
Зачем нам причинил такую боль?
Встань поскорее, выйди из могилы,
Тебе не подобает эта роль.
Ты не однажды умирал, бывало,
И в смерть твою не мог не верить зал,
Но гром оваций этого же зала
Тебя опять из мертвых воскрешал.
Идет спектакль. На заднем плане горы.
Я – только зритель, но в моей груди
Волнуется помощник режиссера
И шепчет: «Инусилов, выходи».
Но не сыграть тебе в любимой драме
Ни нынче вечером, ни через год,
Не вырваться тебе: могильный камень
Сильнее сцены, что тебя зовет.
Сегодня упадет другой влюбленный,
Взойдет другой правитель на престол.
А ты без репетиций и прогонов,
На горе нам, в другую роль вошел.
Кто автор пьесы, действие которой
Выходит из привычных нам границ
И убивает навсегда актеров,
А не всего лишь действующих лиц?
И занавес упал неколебимый.
Гремел оркестр, и молчал суфлер,
Ты прочь ушел без парика, без грима,
В простой одежде уроженца гор.
Мавр может уходить, он сделал дело
И навсегда погиб в последний раз,
И сразу же па сцене опустело,
И грустно замер зал, и свет погас.
Мой друг Басир, что ты наделал, милый?
Зачем нам причинил такую боль?
Встань поскорее, выйди из могилы,
Тебе не подобает эта роль.
Мой друг Басир, что ты наделал, милый?
Зачем нам причинил такую боль?
Встань поскорее, выйди из могилы,
Тебе не подобает эта роль.
Ты не однажды умирал, бывало,
И в смерть твою не мог не верить зал,
Но гром оваций этого же зала
Тебя опять из мертвых воскрешал.
Идет спектакль. На заднем плане горы.
Я – только зритель, но в моей груди
Волнуется помощник режиссера
И шепчет: «Инусилов, выходи».
Но не сыграть тебе в любимой драме
Ни нынче вечером, ни через год,
Не вырваться тебе: могильный камень
Сильнее сцены, что тебя зовет.
Сегодня упадет другой влюбленный,
Взойдет другой правитель на престол.
А ты без репетиций и прогонов,
На горе нам, в другую роль вошел.
Кто автор пьесы, действие которой
Выходит из привычных нам границ
И убивает навсегда актеров,
А не всего лишь действующих лиц?
И занавес упал неколебимый.
Гремел оркестр, и молчал суфлер,
Ты прочь ушел без парика, без грима,
В простой одежде уроженца гор.
Мавр может уходить, он сделал дело
И навсегда погиб в последний раз,
И сразу же па сцене опустело,
И грустно замер зал, и свет погас.
Мой друг Басир, что ты наделал, милый?
Зачем нам причинил такую боль?
Встань поскорее, выйди из могилы,
Тебе не подобает эта роль.
Мне оправданья нет и нет спасенья...
Мне оправданья нет и нет спасенья.
Но, милая моя, моя сестра,
Прости меня за гнев и оскорбленье,
Которое нанес тебе вчера.
Я заклинаю, если только можешь,
Прости меня.
Случается подчас,
Что человек другой, со мной не схожий,
В мое нутро вселяется на час.
И тот, другой, – жестокий, грубый, пьяный, –
Бывает неразумен и смешон.
Но он в меня вселяется незваный,
И в нашей схватке побеждает он.
И я тогда все делаю иначе,
Мне самому невыносимо с ним.
В тот час я, зрячий, становлюсь незрячим,
В тот час я, чуткий, становлюсь глухим.
При нем я сам собою не бываю
И плохо понимаю, что творю,
Стихи и песни – все я забываю,
Не слышу ничего, что говорю.
Вчера свинцом в мои он влился жилы
И все застлал тяжелой пеленой.
Мне страшно вспоминать, что говорил он
И что он делал, называясь мной.
Я силой прогонять его пытался,
Но, преступая грань добра и зла,
Он злился, он бранился, он смеялся
И прочь исчез, как только ты ушла.
Я за тобой бежал, кричал. Что толку?
Ты уходила, не оборотясь,
Оставив на полу моем заколку
И на душе раскаянье и грязь.
Мне оправданья нет и нет спасенья,
Но ты прости меня, моя сестра,
За униженье и за оскорбленье,
За все, что сделал мои двойник вчера.
Мне оправданья нет и нет спасенья.
Но, милая моя, моя сестра,
Прости меня за гнев и оскорбленье,
Которое нанес тебе вчера.
Я заклинаю, если только можешь,
Прости меня.
Случается подчас,
Что человек другой, со мной не схожий,
В мое нутро вселяется на час.
И тот, другой, – жестокий, грубый, пьяный, –
Бывает неразумен и смешон.
Но он в меня вселяется незваный,
И в нашей схватке побеждает он.
И я тогда все делаю иначе,
Мне самому невыносимо с ним.
В тот час я, зрячий, становлюсь незрячим,
В тот час я, чуткий, становлюсь глухим.
При нем я сам собою не бываю
И плохо понимаю, что творю,
Стихи и песни – все я забываю,
Не слышу ничего, что говорю.
Вчера свинцом в мои он влился жилы
И все застлал тяжелой пеленой.
Мне страшно вспоминать, что говорил он
И что он делал, называясь мной.
Я силой прогонять его пытался,
Но, преступая грань добра и зла,
Он злился, он бранился, он смеялся
И прочь исчез, как только ты ушла.
Я за тобой бежал, кричал. Что толку?
Ты уходила, не оборотясь,
Оставив на полу моем заколку
И на душе раскаянье и грязь.
Мне оправданья нет и нет спасенья,
Но ты прости меня, моя сестра,
За униженье и за оскорбленье,
За все, что сделал мои двойник вчера.