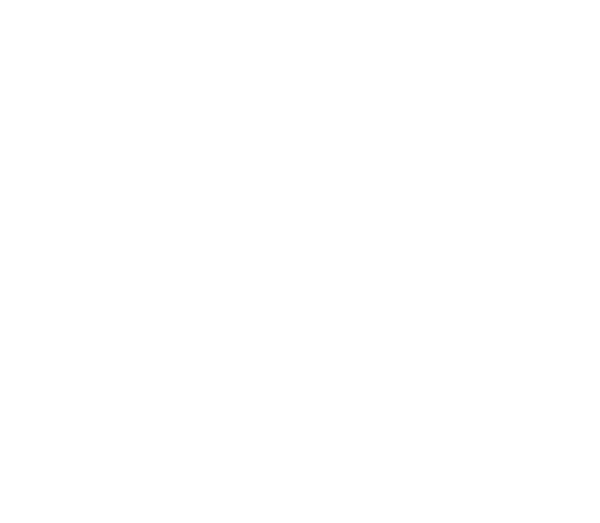1975
Из книги "Персидские стихи"
Расул Гамзатов
Персия
В Иран приехав вешнею порою,
Трех женщин я повсюду встретить мог.
Одна тысячелетнею чадрою
Окутана была до самых ног.
Красивых женщин пели не случайно
Поэты здесь в былые времена.
– Кто вы, ханум, чей лик сокрыт, как тайна?
– Я – Персия, – ответила она.
Чадра другой была под стать вуали,
Приметить позволяя неспроста
Жемчужины,
которые сверкали
В полуоткрытой киновари рта.
Казалось, проплывавшая в зените,
Слегка прикрылась облаком луна.
– Кто вы, ханум? Как вас зовут, скажите?
– Я – Персия, – ответила она.
Точеные, как будто из самшита,
У третьей были ножки.
И, смугла,
Мне улыбалась женщина открыто,
И я подумал: «Боже, как мила!»
Прекрасный лик. Точеная осанка,
И дерзко грудь почти обнажена.
– А вы, мадам, наверно, парижанка?
– Я – Персия, –
ответила она.
В Иран приехав вешнею порою,
Трех женщин я повсюду встретить мог.
Одна тысячелетнею чадрою
Окутана была до самых ног.
Красивых женщин пели не случайно
Поэты здесь в былые времена.
– Кто вы, ханум, чей лик сокрыт, как тайна?
– Я – Персия, – ответила она.
Чадра другой была под стать вуали,
Приметить позволяя неспроста
Жемчужины,
которые сверкали
В полуоткрытой киновари рта.
Казалось, проплывавшая в зените,
Слегка прикрылась облаком луна.
– Кто вы, ханум? Как вас зовут, скажите?
– Я – Персия, – ответила она.
Точеные, как будто из самшита,
У третьей были ножки.
И, смугла,
Мне улыбалась женщина открыто,
И я подумал: «Боже, как мила!»
Прекрасный лик. Точеная осанка,
И дерзко грудь почти обнажена.
– А вы, мадам, наверно, парижанка?
– Я – Персия, –
ответила она.
В Ширазе
Я спросил в Ширазе речку малую:
– Как случилось, что не первый век,
Осенясь звездою семипалою,
Стала ты известней многих рек?
Отвечала речка светло-сизая:
– Потому завиден мой удел,
Что поила некогда Хафиза я,
И меня он некогда воспел.
Я спросил в Ширазе розу красную:
– Почему не первый век подряд,
Называя самою прекрасною,
О тебе повсюду говорят?
Почему ты, как звезда вечерняя,
Выше роз других вознесена?
– Пел Хафиз, –
сказала роза чермная, –
Обо мне в былые времена.
И на женщин бросив взгляд не издали,
Я спросил в Ширазе как-то раз:
– Почему считают в мире исстари
Первыми красавицами вас?
– Жизнь сравнивший с чашею пригубленной,
Так считал Хафиз.
И, не скупой,
Самарканд за родинку возлюбленной
Отдавал он вместе с Бухарой.
Я спросил в Ширазе речку малую:
– Как случилось, что не первый век,
Осенясь звездою семипалою,
Стала ты известней многих рек?
Отвечала речка светло-сизая:
– Потому завиден мой удел,
Что поила некогда Хафиза я,
И меня он некогда воспел.
Я спросил в Ширазе розу красную:
– Почему не первый век подряд,
Называя самою прекрасною,
О тебе повсюду говорят?
Почему ты, как звезда вечерняя,
Выше роз других вознесена?
– Пел Хафиз, –
сказала роза чермная, –
Обо мне в былые времена.
И на женщин бросив взгляд не издали,
Я спросил в Ширазе как-то раз:
– Почему считают в мире исстари
Первыми красавицами вас?
– Жизнь сравнивший с чашею пригубленной,
Так считал Хафиз.
И, не скупой,
Самарканд за родинку возлюбленной
Отдавал он вместе с Бухарой.
Лунный свет лила ночная чаша,
И сказал задумчиво Хафиз:
– Знай, любовь существовала ваша
С той поры, как звезды смотрят вниз.
И сказал задумчиво Хафиз:
– Знай, любовь существовала ваша
С той поры, как звезды смотрят вниз.
Хафиз не оставил Шираза
Манивший из разных сторон мусульман,
Сверкавший подобьем алмаза,
Хоть был недалек голубой Исфаган,
Хафиз не оставил Шираза.
Мерцал полумесяц над свитком дорог,
Но их опасался, как сглаза,
Хафиз потому, что оставить не мог
Печальными розы Шираза.
Владыки Востока из белых дворцов,
За честь они это считали,
С дарами к нему посылали гонцов
И в гости его приглашали.
Гонцы увозили, нахмурясь, как ночь,
Любезные строки отказа.
Писал он владыкам:
«И на день невмочь
Оставить мне женщин Шираза».
Саади бывал и в далеких краях,
Где пел он над струнами саза,
Но в жизни ни разу –
любви падишах –
Хафиз не оставил Шираза.
И к женщинам лик обращал, как привет,
Он даже во время намаза.
Покинуть боялся, наверное, свет
Хафиз в отдаленье Шираза.
Манивший из разных сторон мусульман,
Сверкавший подобьем алмаза,
Хоть был недалек голубой Исфаган,
Хафиз не оставил Шираза.
Мерцал полумесяц над свитком дорог,
Но их опасался, как сглаза,
Хафиз потому, что оставить не мог
Печальными розы Шираза.
Владыки Востока из белых дворцов,
За честь они это считали,
С дарами к нему посылали гонцов
И в гости его приглашали.
Гонцы увозили, нахмурясь, как ночь,
Любезные строки отказа.
Писал он владыкам:
«И на день невмочь
Оставить мне женщин Шираза».
Саади бывал и в далеких краях,
Где пел он над струнами саза,
Но в жизни ни разу –
любви падишах –
Хафиз не оставил Шираза.
И к женщинам лик обращал, как привет,
Он даже во время намаза.
Покинуть боялся, наверное, свет
Хафиз в отдаленье Шираза.
Могущество Хафиза
Памяти Сергея Есенина
В голубом мерцающем тумане
Прошептали женские уста:
– Принято гадать у нас в Иране
На стихах Хафиза неспроста.
И тебе дана въездная виза,
Чтоб воочью убедился ты,
Каково могущество Хафиза
В слове незакатной высоты.
Замерев,
гадавшие внимали
Черной вязи белого листа,
Потому, что правду мне сказали
В этот вечер женские уста.
Где стоит между ветвей зеленых
На мечеть похожий кипарис,
Тайной властью тысячи влюбленных
Сделал приближенными Хафиз.
Как велит обычай,
в знак привета
Прикоснувшись к сердцу и ко лбу,
Я, склонясь над книгою поэта,
Стал свою загадывать судьбу.
– Отвечай, –
спросил я у газели
Голосом беззвучным, как во сне:
– В этот час тоскует обо мне ли
Дорогая в отчей стороне? –
О себе гадал, и о любимой,
И о том, что связывает нас.
И давал Хафиз ответ правдивый
На любой вопрос мой всякий раз.
И тогда спросил я в изумленье:
– Как, Хафиз, все знаешь ты про нас,
Если от Шираза в отдаленье
Славится не розами Кавказ? –
Лунный свет лила ночная чаша,
И сказал задумчиво Хафиз:
– Знай, любовь существовала ваша
С той поры, как звезды смотрят вниз.
Памяти Сергея Есенина
В голубом мерцающем тумане
Прошептали женские уста:
– Принято гадать у нас в Иране
На стихах Хафиза неспроста.
И тебе дана въездная виза,
Чтоб воочью убедился ты,
Каково могущество Хафиза
В слове незакатной высоты.
Замерев,
гадавшие внимали
Черной вязи белого листа,
Потому, что правду мне сказали
В этот вечер женские уста.
Где стоит между ветвей зеленых
На мечеть похожий кипарис,
Тайной властью тысячи влюбленных
Сделал приближенными Хафиз.
Как велит обычай,
в знак привета
Прикоснувшись к сердцу и ко лбу,
Я, склонясь над книгою поэта,
Стал свою загадывать судьбу.
– Отвечай, –
спросил я у газели
Голосом беззвучным, как во сне:
– В этот час тоскует обо мне ли
Дорогая в отчей стороне? –
О себе гадал, и о любимой,
И о том, что связывает нас.
И давал Хафиз ответ правдивый
На любой вопрос мой всякий раз.
И тогда спросил я в изумленье:
– Как, Хафиз, все знаешь ты про нас,
Если от Шираза в отдаленье
Славится не розами Кавказ? –
Лунный свет лила ночная чаша,
И сказал задумчиво Хафиз:
– Знай, любовь существовала ваша
С той поры, как звезды смотрят вниз.
Мечеть Шах-Абаса в Исфагане
К себе приковывая взор,
Земли и неба сблизив грани,
Стоит, векам наперекор,
Мечеть, красуясь, в Исфагане.
Мечети было суждено,
Чтоб сумрак тайн ее окутал.
Шепнешь в ней слово,
и оно
Плывет, озвученно, под купол.
И повествует мне рассказ,
Не сгинув в древностном тумане:
«Решил однажды шах-Абас
Мечеть построить в Исфагане.
И разослал глашатых он
В пределы дальних мест и отчих.
И во дворец со всех сторон
Сошлися лучшие из зодчих.
И со ступени голубой,
Вблизи журчащего арыка,
Сложив ладони пред собой,
К ним слово обратил владыка:
– Должны построить вы мечеть,
Покуда царствовать я буду,
Но чтоб она могла и впредь
Стоять в веках, подобно чуду.
Они ответили ему:
– Не торопись на нас гневиться,
Ты стар уже, и потому
Не сможем в срок мы уложиться.
И лишь один сказал:
– Мой шах,
Клянусь:
по собственной охоте,
Обдумав трезво этот шаг,
Готов я приступить к работе...
Отменно двинулись дела,
Сам шах держал все на примете.
И в срок заложена была
Основа будущей мечети.
И вдруг над шахом, словно плеть,
Взметнулась весть,
грозой чревата:
Мол, зодчий, строивший мечеть,
Бежал из города куда-то.
– Догнать! – взъярился шах-Абас, –
Живым иль мертвым, но доставить,
А не исполните приказ,
Всех вас велю я обезглавить…
Исчез беглец.
Лет пять с тех пор
Прошло. Но вот доносят шаху,
Что из бегов к нему во двор
Явился зодчий, как на плаху.
И прежде чем его казнить,
Спросил у зодчего владыка:
– Сумев основье заложить,
Почто бежал от нас, скажи-ка?
– Ты был похож на седока,
Что шпорит скакуна до крови,
А чтобы строить на века,
Окрепнуть следует основе.
Случалось, рушились во прах
Столпы держав.
Что хмуришь брови?
И вера может рухнуть, шах,
Когда нет твердости в основе.
Не испугавшись топора,
Я потому явился снова,
Что стены класть пришла пора,
Достигла крепости основа.
Взглянув на звездный календарь,
Сумей себя переупрямить.
Приступим к делу, государь,
Чтоб о тебе осталась память.
И зодчий шахом был прощен,
Но стал печальней шах, чем ране...
Стоит над бурями времен
Мечеть, красуясь, в Исфагане.
К себе приковывая взор,
Земли и неба сблизив грани,
Стоит, векам наперекор,
Мечеть, красуясь, в Исфагане.
Мечети было суждено,
Чтоб сумрак тайн ее окутал.
Шепнешь в ней слово,
и оно
Плывет, озвученно, под купол.
И повествует мне рассказ,
Не сгинув в древностном тумане:
«Решил однажды шах-Абас
Мечеть построить в Исфагане.
И разослал глашатых он
В пределы дальних мест и отчих.
И во дворец со всех сторон
Сошлися лучшие из зодчих.
И со ступени голубой,
Вблизи журчащего арыка,
Сложив ладони пред собой,
К ним слово обратил владыка:
– Должны построить вы мечеть,
Покуда царствовать я буду,
Но чтоб она могла и впредь
Стоять в веках, подобно чуду.
Они ответили ему:
– Не торопись на нас гневиться,
Ты стар уже, и потому
Не сможем в срок мы уложиться.
И лишь один сказал:
– Мой шах,
Клянусь:
по собственной охоте,
Обдумав трезво этот шаг,
Готов я приступить к работе...
Отменно двинулись дела,
Сам шах держал все на примете.
И в срок заложена была
Основа будущей мечети.
И вдруг над шахом, словно плеть,
Взметнулась весть,
грозой чревата:
Мол, зодчий, строивший мечеть,
Бежал из города куда-то.
– Догнать! – взъярился шах-Абас, –
Живым иль мертвым, но доставить,
А не исполните приказ,
Всех вас велю я обезглавить…
Исчез беглец.
Лет пять с тех пор
Прошло. Но вот доносят шаху,
Что из бегов к нему во двор
Явился зодчий, как на плаху.
И прежде чем его казнить,
Спросил у зодчего владыка:
– Сумев основье заложить,
Почто бежал от нас, скажи-ка?
– Ты был похож на седока,
Что шпорит скакуна до крови,
А чтобы строить на века,
Окрепнуть следует основе.
Случалось, рушились во прах
Столпы держав.
Что хмуришь брови?
И вера может рухнуть, шах,
Когда нет твердости в основе.
Не испугавшись топора,
Я потому явился снова,
Что стены класть пришла пора,
Достигла крепости основа.
Взглянув на звездный календарь,
Сумей себя переупрямить.
Приступим к делу, государь,
Чтоб о тебе осталась память.
И зодчий шахом был прощен,
Но стал печальней шах, чем ране...
Стоит над бурями времен
Мечеть, красуясь, в Исфагане.
Сабля Надир-Шаха и рубай Омар Хайяма
Отгарцевавший в царствии подлунном
И превращенный временем во прах,
С клинком в руке
на скакуне чугунном
Седым Мешхедом скачет Надир-шах.
Не изменивший собственной натуре,
Надменный всадник грозен и упрям.
И белой чашей в древнем Нишапуре,
Как будто сам венчал себя Хайям.
И восклицает сабля Надир-шаха:
– Мне власть была завидная дана,
Я всласть
рубила головы с размаху,
Приказу высочайшему верна.
Царя царей – великого Надира
Я славила,
сверкая и звеня,
И в двадцати походах
он полмира
Смог покорить при помощи меня.
Придворные поэты
фимиама
Мне не жалели,
словеса граня.
Но почему вас, рубаи Хайяма,
Умельцы не вчеканили в меня?
– Мы рождены для разного напева, –
Хайяма отвечали рубай, –
Ты пела смерть,
исполненная гнева,
А мы любовь – глашатаи любви.
Хозяин твой и в праздник хмурил брови,
А с нашим – радость век была дружна.
Твои уста карминились от крови,
А наши – от багряного вина.
Тебя боялись больше вести черной,
А нас встречали, как благую весть.
Ты принуждала к робости покорной,
А мы свободе воздавали честь.
Владелец твой,
вдевая ногу в стремя,
Немало городов чужих сторон
Смог покорить,
но покорить на время,
А нами мир навечно покорен...
В Мешхеде Надир-шах,
подобный буре,
Как будто бы грозит чужим краям,
И белой чашей в древнем Нишапуре
Желает с вами чокнуться Хайям.
Отгарцевавший в царствии подлунном
И превращенный временем во прах,
С клинком в руке
на скакуне чугунном
Седым Мешхедом скачет Надир-шах.
Не изменивший собственной натуре,
Надменный всадник грозен и упрям.
И белой чашей в древнем Нишапуре,
Как будто сам венчал себя Хайям.
И восклицает сабля Надир-шаха:
– Мне власть была завидная дана,
Я всласть
рубила головы с размаху,
Приказу высочайшему верна.
Царя царей – великого Надира
Я славила,
сверкая и звеня,
И в двадцати походах
он полмира
Смог покорить при помощи меня.
Придворные поэты
фимиама
Мне не жалели,
словеса граня.
Но почему вас, рубаи Хайяма,
Умельцы не вчеканили в меня?
– Мы рождены для разного напева, –
Хайяма отвечали рубай, –
Ты пела смерть,
исполненная гнева,
А мы любовь – глашатаи любви.
Хозяин твой и в праздник хмурил брови,
А с нашим – радость век была дружна.
Твои уста карминились от крови,
А наши – от багряного вина.
Тебя боялись больше вести черной,
А нас встречали, как благую весть.
Ты принуждала к робости покорной,
А мы свободе воздавали честь.
Владелец твой,
вдевая ногу в стремя,
Немало городов чужих сторон
Смог покорить,
но покорить на время,
А нами мир навечно покорен...
В Мешхеде Надир-шах,
подобный буре,
Как будто бы грозит чужим краям,
И белой чашей в древнем Нишапуре
Желает с вами чокнуться Хайям.
Владелец твой,
вдевая ногу в стремя,
Немало городов чужих сторон
Смог покорить,
но покорить на время,
А нами мир навечно покорен...
вдевая ногу в стремя,
Немало городов чужих сторон
Смог покорить,
но покорить на время,
А нами мир навечно покорен...
Ответ Хайяма
Собственному преданный исламу,
Чьи не слишком строги письмена,
На поклон придя к Омар Хайяму,
Осушил я полный рог вина,
И, оставшись трезвым, как арыки,
Вопрошал душевен я и прям:
– Чей ты будешь? Персы и таджики
Спорят из-за этого, Хайям?
Словно из таинственного храма,
Прозвучал ответ его сквозь смех:
– Я не беден, и богатств Хайяма
Под луной хватить должно на всех.
Собственному преданный исламу,
Чьи не слишком строги письмена,
На поклон придя к Омар Хайяму,
Осушил я полный рог вина,
И, оставшись трезвым, как арыки,
Вопрошал душевен я и прям:
– Чей ты будешь? Персы и таджики
Спорят из-за этого, Хайям?
Словно из таинственного храма,
Прозвучал ответ его сквозь смех:
– Я не беден, и богатств Хайяма
Под луной хватить должно на всех.
Я ходил по земле шахиншахов
Я ходил по земле шахиншахов
И однажды над лунной водой
Там не в праздном кругу вертопрахов
Персиянке внимал молодой.
На устах неподдельный багрянец,
А в глазах – чуть лукавая синь:
– Говорят, что у вас, чужестранец,
Нет ни шахов давно, ни шахинь?
– То неправда, ханум!
И поныне
Шахи есть у нас в образе гор.
И возлюбленной рад, как шахине,
Поклоняться любой до сих пор.
Я ходил по земле шахиншахов
И однажды над лунной водой
Там не в праздном кругу вертопрахов
Персиянке внимал молодой.
На устах неподдельный багрянец,
А в глазах – чуть лукавая синь:
– Говорят, что у вас, чужестранец,
Нет ни шахов давно, ни шахинь?
– То неправда, ханум!
И поныне
Шахи есть у нас в образе гор.
И возлюбленной рад, как шахине,
Поклоняться любой до сих пор.
Отношение к женщине...
Я спросил на вершине,
поросшей кизилом:
«Что мужского достоинства
служит мерилом?»
«Отношение к женщине», –
молвило небо в ответ.
«Чем измерить, – спросил я
у древней былины, –
Настоящее мужество в сердце мужчины?»
«Отношением к женщине», –
мне отвечала она.
«Чем любовь измеряется
сердца мужского?»
«Отношением к женщине...»
«Нет мерила такого», –
возразили служители мер и весов.
Я спросил на вершине,
поросшей кизилом:
«Что мужского достоинства
служит мерилом?»
«Отношение к женщине», –
молвило небо в ответ.
«Чем измерить, – спросил я
у древней былины, –
Настоящее мужество в сердце мужчины?»
«Отношением к женщине», –
мне отвечала она.
«Чем любовь измеряется
сердца мужского?»
«Отношением к женщине...»
«Нет мерила такого», –
возразили служители мер и весов.
На золотом пергаменте восточном...
У Мелик-шаха заслужив почет,
Высокого исполненные смысла,
Писал алгебраические числа
Омар Хайям – придворный звездочет.
Арабская цифирь,
а по краям
На золотом пергаменте восточном
Есть где сверкнуть стихам четырехстрочным,
Которые сложил Омар Хайям.
Пергамент, словно пиршественный стол,
Он головы легко насытит ваши,
А по краям стоят хмельные чаши
На дне – кто пил их –
истину нашел.
У Мелик-шаха заслужив почет,
Высокого исполненные смысла,
Писал алгебраические числа
Омар Хайям – придворный звездочет.
Арабская цифирь,
а по краям
На золотом пергаменте восточном
Есть где сверкнуть стихам четырехстрочным,
Которые сложил Омар Хайям.
Пергамент, словно пиршественный стол,
Он головы легко насытит ваши,
А по краям стоят хмельные чаши
На дне – кто пил их –
истину нашел.
Стихи, в которых ты воспета
Такого нету амулета,
Чтоб от сердечных ран спасал.
И персиянкам я читал
Стихи, в которых ты воспета.
И, хоть в стихах вознесена
Ты всякий раз была высоко,
Не высказала мне упрека
Из многих женщин ни одна.
А ты,
лишаясь белых крыл,
Бросаешь снова мне упреки
За то, что преданные строки
Одной из них я посвятил.
Такого нету амулета,
Чтоб от сердечных ран спасал.
И персиянкам я читал
Стихи, в которых ты воспета.
И, хоть в стихах вознесена
Ты всякий раз была высоко,
Не высказала мне упрека
Из многих женщин ни одна.
А ты,
лишаясь белых крыл,
Бросаешь снова мне упреки
За то, что преданные строки
Одной из них я посвятил.
Вижу я: твои руки как руки...
Вижу я:
твои руки как руки,
Не похожи на звезды глаза.
И бровей неприметны излуки,
Хоть черны они, словно гроза.
И собой драгоценного лала
Не стремятся напомнить уста.
Но обличьем твоим, как бывало,
Я любуюсь опять неспроста.
Что возникнет,
когда на странице
В книге слово от слова отсечь?
Но сольются слова в вереницы,
И поймешь, как пленительна речь!
Вижу я:
твои руки как руки,
Не похожи на звезды глаза.
И бровей неприметны излуки,
Хоть черны они, словно гроза.
И собой драгоценного лала
Не стремятся напомнить уста.
Но обличьем твоим, как бывало,
Я любуюсь опять неспроста.
Что возникнет,
когда на странице
В книге слово от слова отсечь?
Но сольются слова в вереницы,
И поймешь, как пленительна речь!
«Чем измерить, – спросил я
у древней былины, –
Настоящее мужество в сердце мужчины?»
«Отношением к женщине», –
мне отвечала она.
у древней былины, –
Настоящее мужество в сердце мужчины?»
«Отношением к женщине», –
мне отвечала она.
Гугуш
«Верю, верю,
Люблю, люблю».
Трепет коснулся душ.
«Верю, верю,
Люблю, люблю», –
Петь начала Гугуш.
Бьет в маленький бубен ее рука,
Ах, милая ворожея,
Не знаю персидского языка,
Но все понимаю я.
«Верю, верю,
Люблю, люблю».
Свет вокруг бирюзов.
И, очарованный, я ловлю
Песенки тайный зов.
«Верю, верю,
Люблю, люблю».
Кто-то кому-то люб.
«Верю, верю,
Люблю, люблю».
Клятва слетает с губ.
В песне два слова, но снова они
Вместили близь отчих сторон
Ночи, которым завидуют дни,
Очи, где я отражен.
«Верю, верю,
Люблю, люблю».
Это как дождик в сушь.
И, очарованный, я молю:
– Спой мне еще, Гугуш!
«Верю, верю,
Люблю, люблю».
Трепет коснулся душ.
«Верю, верю,
Люблю, люблю», –
Петь начала Гугуш.
Бьет в маленький бубен ее рука,
Ах, милая ворожея,
Не знаю персидского языка,
Но все понимаю я.
«Верю, верю,
Люблю, люблю».
Свет вокруг бирюзов.
И, очарованный, я ловлю
Песенки тайный зов.
«Верю, верю,
Люблю, люблю».
Кто-то кому-то люб.
«Верю, верю,
Люблю, люблю».
Клятва слетает с губ.
В песне два слова, но снова они
Вместили близь отчих сторон
Ночи, которым завидуют дни,
Очи, где я отражен.
«Верю, верю,
Люблю, люблю».
Это как дождик в сушь.
И, очарованный, я молю:
– Спой мне еще, Гугуш!
Розы Шираза
Мирзо Турсун-заде
Венчают стихов виноградные лозы
Столетия каждою грудь.
Ты помнишь, Мирзо,
как ширазские розы
С тобой провожали нас в путь?
Быть может,
завиднее нет их удела,
Где утренний купол цветаст.
И сколько бы времени ни пролетело,
Хафиз им завянуть не даст.
Клубились над городом первые грозы
И первые вились стрижи.
Ты помнишь, Мирзо, провожали нас розы,
Как будто надев паранджи.
Они нам шептали:
«Грешно торопиться,
Хоть на день отсрочьте отъезд,
И наши пред вами откроются лица,
Как лучших ширазских невест».
Поверь мне, Мирзо,
я с утра до заката
Красой любоваться горазд.
Ах, розы Шираза!
Воспев их когда-то,
Хафиз им завянуть не даст!
Мирзо Турсун-заде
Венчают стихов виноградные лозы
Столетия каждою грудь.
Ты помнишь, Мирзо,
как ширазские розы
С тобой провожали нас в путь?
Быть может,
завиднее нет их удела,
Где утренний купол цветаст.
И сколько бы времени ни пролетело,
Хафиз им завянуть не даст.
Клубились над городом первые грозы
И первые вились стрижи.
Ты помнишь, Мирзо, провожали нас розы,
Как будто надев паранджи.
Они нам шептали:
«Грешно торопиться,
Хоть на день отсрочьте отъезд,
И наши пред вами откроются лица,
Как лучших ширазских невест».
Поверь мне, Мирзо,
я с утра до заката
Красой любоваться горазд.
Ах, розы Шираза!
Воспев их когда-то,
Хафиз им завянуть не даст!